Я еле дышала и была на грани обморока. И я, наверное, все-таки грохнулась бы от перенапряжения посреди зала, если бы не то, что мне сказал Игорь:
– Слушай, Кать, моя маман мне какую-то лапшу на уши вешала про тебя. Я так ничего и не понял. Ты не могла бы объяснить?
– Если лапшу, то нечего и объяснять, – удивляясь твердости своего голоса, ответила я.
– Ну… не знаю… может, и не лапшу… про какие-то письма говорила…
– Про какие письма? – спросила я и поняла, что никогда не отдам ему листок, хрустящий в кармане джинсов.
– Если бы я понял, то не спрашивал. Она вроде как меня предостерегала от тебя и от твоих писем. Ты что, кому-то что-то писала?
– Глупости какие! – усмехнулась я. – Зачем мне это надо? Сейчас время других скоростей и других способов передачи информации. Надо было бы что-то сообщить – позвонила бы по телефону.
– Да? – почему-то очень растерянно сказал Игорь, а я послала мысленный привет родителям.
Родители так закалили меня своей вечной руганью, что я лучше всего соображаю, когда меня ругают или подозревают в чем-то, и всегда нахожу что ответить. Вот если бы мамаша Игоря пришла к нам восхищаться моими письмами, то я наверняка разрыдалась бы от неожиданности положительной реакции на мои поступки.
Потом мы немного потанцевали с Игорем молча, и я опять начала изнемогать от любви. Я ведь танцевала с самим Александровым, которому написала двадцать любовных писем. Он обнимал меня за талию, а мои руки лежали на его плечах. Не об этом ли я только что мечтала, ожидая, когда возле него рассеется толпа наших красоток? Я повернула голову и посмотрела ему в глаза. Он почему-то смутился, будто бы не я, а он мне что-то такое нетрадиционное писал. А я удивлялась себе. Ведь только что собиралась во время танца признаться ему в любви… Почему же не признаюсь? Всего-навсего и надо-то сказать: «Я тебя люблю». Я ведь столько раз мысленно произносила эту фразу. И в своих стихах (или не стихах) тоже.
В общем, у меня ничего не получилось. Может быть, из-за того, что мамаша Игоря предостерегала его от меня. Мало ли в каком свете она меня ему представила… Может быть, какой-нибудь шизофреничкой или еще кем-нибудь похуже.
После окончания танца Игорь отвел меня к тому же самому стулу, на котором я сидела верхом до его приглашения. Не успела я взгромоздиться на прежнее место, как меня окружили девчонки во главе с Настькой Шевченко.
– Так, значит, это ты? – глупо спросила она и еще глупее улыбнулась.
– Безусловно: я – это я! – пришлось мне с ней согласиться.
– Ты специально врала, что Игорь тебе не нравится, потому что у вас с ним уже есть какие-то отношения? – продолжила Шевченко, а все остальные девчонки закивали своими завитыми головами с раскрашенными, как на карнавале, лицами.
– Мои с ним отношения вас никоим образом не касаются, потому что они выпадают из ваших идиотских анкет и записок.
– Ой-ей-ей! Посмотрите на нее! – призвала всех присутствующих Настька, а я подумала, что в ее манерах очень много общего с мамашей Игоря и даже с Машкой Калашниковой. – Наша Катя Максимова претендует на что-то особенное! Мы с вами, девочки, – она еще раз оглядела своих приятельниц, – примитивные, а она у нас – необыкновенная!
– Слушай, Настя, что тебе от меня надо? – спросила я.
– То самое! Мы только что, как и собирались, послали Александрову записку, после прочтения которой он должен был пригласить на танец ту девочку из нашего класса, которая ему больше всего нравится.
– Ну и что?
– И то! Он пригласил тебя!
– Может, он еще не прочитал вашу записку?
– Как это не прочитал, когда мы все это своими глазами видели! – встряла гнусная предательница Погорельцева.
– Уверяю вас, что он пригласил меня совершенно по другому поводу, – решила я успокоить девчонок. – Нам просто надо было поговорить. – И все!
– Да? А почему не раньше и не позже, а именно после прочтения нашей записки? – не унималась Наташка.
Слушать эту белиберду у меня больше не было сил. И, как всегда, от злости я сделалась неадекватной.
– Пошли! – пригласила я девчонок.
– Куда?
– Зачем?
– Не ходите с ней, девочки! – запищали они на разные голоса.
Я не стала их слушать и пошла в ту сторону зала, где в кругу наших парней стоял Игорь. Через некоторое время ко мне подтянулась Настька, потом Наташка, а за ней и все остальные. Я так и знала, что они не утерпят.
– Ты получил их записку? – прямо спросила я Игоря.
– Какую? – Он сделал вид, что ничего не понял.
– Как какую? – возмутилась Наташка. – Я сама видела, как ты ее читал! Ту, где мы тебя прямо спрашиваем, кто тебе… Ну, в общем, ты ведь понял, про какую записку идет речь.
– Ах, ту… Так это ж прикол!
– Никакой не прикол! Все очень серьезно! Ты прочел записку и пошел приглашать Катю Максимову, – напомнила ему Шевченко. – Значит, это она?
Я смотрела в карие глаза Игоря и ждала, что он ответит. Он обвел взглядом девчонок, поморщился и сказал:
– А не кажется ли вам, что моя личная жизнь вас совершенно не касается?
Его ответ мне понравился. Еще больше мне понравилось то, что он сделал после. Он взял меня за руку и опять повел танцевать.
– Ты что, в оппозиции к остальным девчонкам? – спросил Игорь.
– Я не в оппозиции. Я просто сама по себе, – ответила я.
– И тебя абсолютно не интересует, кто мне нравится?
– Не интересует.
– Почему?
– Не интересует, и все!
– А тебе кто-то нравится?
– Слушай, а тебе не кажется, что моя личная жизнь тебя совершенно не касается? – специально ответила я практически его же фразой.
– Казалось до некоторого времени… Но вот маман… Я никак не могу понять, что тебя с ней связывает, и почему-то нервничаю по этому поводу.
– Не стоит. С завтрашнего дня начинаются каникулы. Ты отдохнешь и забудешь про все, что тебе наговорила твоя маман.
Я выскользнула из его рук и пошла домой. Шла и давилась слезами. Ну почему я говорила ему не то, что хотела? Я будто бы защищалась и отражала удары. Вроде бы и ударов-то не было, а я все пыталась что-то ловить на щит. Какая же я дура! Ведь могла бы признаться во всем! Нет, не могла. Разве можно было признаваться после дурацких записочек девчонок? То, что я испытываю к Игорю, не может быть на одном уровне с их записками. Нравишься – не нравишься… Как это убого! Я его люблю. Это сильно, высоко и красиво. А если он сам находится на уровне записок Шевченко, то нечего ему и знать о моей любви!
Дома меня ждал еще один удар ниже пояса. Родители решили на каникулы отправить меня в оздоровительный лагерь в Солнечном.
– Чтобы проветрила дурную голову на природе и думать забыла, как всякие позорные письма писать! – заявил мне отец.
– Какая природа в конце осени? – испугалась я. – Ты посмотри за окно: дожди, дожди и больше ничего! И Солнечное будет никаким не Солнечным, а Дождливым.
– Природа там – как раз что надо: вечнозеленые сосны и Финский залив. А дождик пусть тебе мозги промоет. Не растаешь!
Я смотрела на своего отца и пыталась представить, как он объяснялся маме в любви. Пыталась, но так и не смогла. Наверное, он говорил что-нибудь вроде: «Давай, Таня, объединимся, чтобы вести общее хозяйство и растить ребенка». А мама отвечала: «Я согласна, Андрей, что вдвоем нам будет легче».
Они не знают, что такое любовь. Они боятся этого слова. Оно обозначает для них нечто непристойное, такое, чего нельзя произносить вслух при порядочных людях.
Сначала я решила, что никуда не поеду. Пусть они меня лучше убьют или выгонят на улицу под дождь. Потом немножко подумала и поняла: поеду. Чтобы их, родителей, не видеть. Чтобы не слышать хотя бы неделю про невыключенный свет, про грязные чашки и про то, какие позорные письма я умудрилась написать, да еще в таком большом количестве. Я устала закрывать уши, чтобы они не слышали, как родители называют меня «чукча-писатель». Им кажется, что это очень остроумно. Во всяком случае, они смеются, когда говорят это.
3 ноября
В лагере очень тяжело писать. Всюду глаза. Всем интересно, что я делаю. Хорошо, что никто даже не может подумать, что я пишу дневник. Для всех современных людей рукописные дневники – что-то вроде атавизма или рудимента. Я не так давно писала реферат по биологии как раз про атавизм и рудименты. В словаре про атавизм так смешно написано: проявление у организма свойств и признаков, характерных для далеких прародителей, например, появление у лошадей двух дополнительных пальцев по бокам вполне развитого у них среднего пальца. До этого я не знала, что у лошадей есть какие-то пальцы. Я думала, что у них сплошные копыта, как у моей игрушки – дымковской лошадки в красных яблоках. Может, когда мы проходили лошадей, про наличие у них пальцев что-то и говорилось, но я как-то не запомнила.
Так вот, мой дневник – это проявление признаков, характерных для светских барышень девятнадцатого века, у которых не было ни телефона, ни компьютера. Свой дневник я ощущаю как часть себя, и потому его вполне можно назвать моим рудиментарным органом, тем самым, который у других людей уже давно утратил свое значение в течение эволюционного развития организма и находится на пути к полному исчезновению, как какая-нибудь вульгарная копчиковая кость.
Кое-кто в лагере думает, что я без конца пишу письма домой, «любименькой мамочке», и посмеивается. Я не разуверяю.
Вообще-то на виду я больше не пишу. Только где-нибудь уединившись. Сейчас, например, в библиотеке. В библиотеку здесь почти никто не ходит, и библиотекарша огорчается. Говорит, что с каждым годом читают все меньше и меньше. А я ей сказала, что в этом ничего удивительного нет. Почти у всех есть компьютеры с выходом в Интернет, в котором все, что хочешь, можно прочитать.
– А ты чего приходишь? – спросила она.
– А у меня нет ни компьютера, ни мобильника, – ответила я. – И вообще: я люблю тишину.

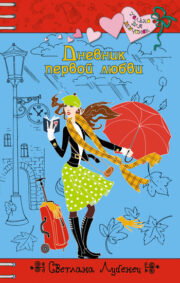
"Дневник первой любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дневник первой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дневник первой любви" друзьям в соцсетях.