Наталия Кочелаева
Дети гламура
ГЛАВА 1
Ее глаза остались широко открытыми, в них отражался яркий электрический свет. В каждом глазу — по матово-розовому, светящемуся шару. Она любила розовый свет — он делал ее моложе. Или ей так казалось. Невинный, кокетливый обман. Но теперь он не сработал. В розовой воде, в розовом свете, в розовой ванне, в окружении розоватых зеркал, забрызганных ярко-алым, уже темнеющим. И розовый пеньюар. Но она не выглядит моложе. Мертвая кукла Барби, лишенная макияжа и розовых тряпиц. Виски синие, нос — желтый. Напряженно вытянутая шея в перекрученных венах. Из них вытекла вся кровь. Ее кровь летит теперь в потоке мутной подземной реки, в общем грязном потоке. А здесь — еще тепло, и тихо, и светло, и пахнет изысканными духами, и стопка толстых белоснежных полотенец на плетеном сундучке, и стебли тропических цветов. Роскошная ванная комната, которой так не идет покойница. Потерпи. Кровь уже ушла, скоро унесут и тело, и пленный дух несчастной самоубийцы канет в адскую бездну. Что ее там ждет? Едкий запах серы уже щекочет мозг.
Нет, это не сера. Это нашатырь. Доктор сует ему под нос ватку, источающую острый нашатырный дух. Каким-то образом Лавров оказался уже в гостиной, на бледно-фисташковом диване.
— Давайте, молодой человек, приходите в себя. Вы ей кто? Сын?
У врача жесткий голос и жесткие холодные пальцы. Он вынужден быть суровым. Ему нужно привести в порядок парня. В прихожей уже топчутся и кашляют. Милиция приехала. «Да-да, я в норме».
— Муж, — говорит Лавров. И видит, как движения врача, складывающего в чемоданчик какие-то инструменты, на пару секунд замедляются. Самоубийце в розовой роскошной сорочке, в розовой ванне — заметно под пятьдесят. Если учесть известную степень ухоженности — за пятьдесят. Не молод для вас этот красавчик, сударыня? Не слишком дорого вам обходился вот такой паж — с узкими бедрами, широкими плечами, и темные кудри падают на смуглый лоб, и полуприкрыты длинные левантинские глаза, и узкая ладонь взлетает к виску в привычном жесте? А на виске — шрам звездочкой, метка ли уличных боев или детских игр? Не слишком тошно было ему склоняться над телом старой гарпии? Тело вымыто, надушено, умащено кремами, но горький, грустный, осенний запах увядания пробивается сквозь парфюмерную муть. Даже умирать она полезла в шелковой ночной сорочке — чтоб не напугать тех, кто найдет ее, зрелищем потрепанных прелестей. Каково тебе, смуглый паж, теперь, когда стареющая королева освободила тебя?
— Как давно вы были знакомы с ныне покойной Верой Федоровной Субботиной?
— Три года.
— Что — три года?
— Мы были знакомы три года. Два с половиной года жили вместе.
— Сожительствовали?
— Мы были женаты.
— Да?
— Это написано в моем паспорте. И в ее тоже.
— Жили у нее?
— У нее.
— Вы прописаны: Выборгская сторона, Комсомольская, семь, квартира сто тринадцать.
— Да.
— Вы часто бывали там?
— Нет. Иногда приезжал посмотреть, все ли в порядке.
— Как ночью двенадцатого сентября? А почему нужно было приезжать именно ночью?
— Днем я занят. Освободился только к девяти. Поужинал…
— Где?
— Что?
— Где вы ужинали?
— В ресторане «Калина».
— Один?
— Один.
— Продолжайте.
— Потом решил съездить на Комсомольскую.
— Во сколько вы туда приехали?
— Часов в одиннадцать.
— Зачем?
— Просто так.
— И просто так задержались до двух часов ночи?
— У меня была встреча.
— Там?
— Там.
— Какого рода встреча?
— Это важно?
— Разумеется.
— Личная встреча.
— Свидание?
— Да.
— Особа, с которой вы встречались… Она может это подтвердить?
— Разумеется.
— Будьте добры, назовите ее фамилию, имя, отчество.
— Крымская Жанна Владимировна.
— И вы приехали домой в два часа ночи?
— Да.
— И обнаружили свою жену в ванной?
— Да.
— И вызвали «скорую»?
— Именно.
— Ясно. Еще один вопрос. Ваша жена — она пила? Употребляла спиртное?
В американском триллере следователь спросил бы: «У нее были проблемы с алкоголем?» Это ж надо, какая бездна между русским беспросветным пьянством и американскими деликатными проблемами! У Веры вот именно были проблемы. Она пила редко и мало, алкоголь действовал на нее очень круто и почти молниеносно, после пары порций коньяка она не контролировала себя, становилась обидчива, плаксива, опьянение выливалось в тихую истерику, а та, в свою очередь, перетекала в глубокий здоровый сон.
— Да… Она… Могла, в общем. Выпить.
— Теперь личный вопрос, Дмитрий Валерьевич. Вне протокола. Не секрет, что у вас с женой приличная разница в возрасте…
— Это вопрос?
— В общем, да. Как такое могло получиться? Вы — человек молодой, очевидно, пользуетесь определенным успехом у женщин…
— Я вас понял, не трудитесь уточнять. В сущности, я мог бы вам и не отвечать. Но я скажу. Просто так случилось. Вера красивая женщина… Была красивой женщиной, я потерял голову… Потом мне случалось об этом пожалеть, но ведь каждый женатый мужчина иногда жалеет о холостяцкой жизни.
— Вот это точно. А вот еще вопрос: вы ведь работаете в фирме, которая принадлежала покойной?
— Да. Мы там и познакомились. Где бы я еще мог увидеть такую женщину?
Дмитрий Лавров увидел свою будущую жену в первый же день на новой работе. Тогда по коридору пронесся словно бы шелест, двери вдруг распахнулись как от сквозняка, и на пороге появилась она. Небожительница. В белоснежном костюме, отороченном мехом марсианских зверей. Тонкие фарфоровые пальцы сжимали бумаги. Казалось, что не бумаги, а цветы. Гиацинты какие-нибудь. Орхидеи! Тонко подкрашенное лицо, длинные, прищуренные ярко-зеленые глаза. Ярко-зеленые искристые камни в ушах, на пальцах. Невидимая дымка странных духов. Запах травяной, болотный, горьковато-тайный.
«Кикимора, — сообразил Дмитрий Валерьевич. — Затянет — и погубит. Считайте, что я утонул».
— Вы наш новый сотрудник? Прошу ко мне в кабинет.
Лавров не вполне понимал — на кой он ей сдался в кабинете-то? Не может быть, чтобы хозяйка глянцевого журнала «Тужур» интересовалась последним-распоследним манагером[1], пробравшимся на работу в теплое тужурно-гламурное изданьице, как червяк в румяное яблочко! Как они туда попадают, кстати? Ах да — бабочки откладывают яйца в цветы. Или не так? Не важно.
Кабинет у Субботиной был — как цветок яблони. Бело-розовый. Только пахло в нем опасными болотными травами, ядовитыми, должно быть.
— У нас, как вы догадались, преимущественно женский коллектив, и мне бы не хотелось…
Да что ты говоришь! Ей как раз хотелось. При первом взгляде на смугло-гладкого, насмешливоглазого, улыбчивого — захотелось поймать его и держать. Себе. Для себя. «О, как на склоне наших дней нежней мы любим и суеверней». Вера не считала себя «на склоне дней». Ее жизнь была впереди, всегда только впереди, обманчивая близость присевшего мотылька — только протяни руку, он испугается мелькнувшей тени, неощутимого колыхания воздуха, вспорхнет — и прощай-прощай! Но этого улыбчивого эфеба она поймала, мягко ухватила за шелковые крылья, выпачкала пальцы душистой оранжевой пыльцой. Это оказалось легко, на удивление легко, неудивительно легко. Она, Вера, была все еще очень хороша, а обаяние больших денег придавало ее облику некую размытость, точно в жаркие дни дрожит над горизонтом марево и мешает рассмотреть детали пейзажа, так и неаппетитные подробности немолодого лица скрывались в горячем мерцании богатства. Ей достаточно было одного царственного жеста, чтобы Дмитрий Лавров приполз и прилег к ее коленям, хватило одной ночи, чтобы он согласился на все. Свадьба? Хорошо! Очень хорошо.
Свадьба вышла скромной. «Молодая была немолода» — цитировала Вера, кружась перед зеркалом. Кружась в кружевном платье цвета слоновой кости. Лавров только нежно усмехался. Она успела здорово задурить ему голову. Страстная, насмешливая, равнодушная, всезнающая… Жизнь без нее казалась пустой, все огни мира погасали вдали от ее сдержанного свечения.
Через год все изменилось. Не могло не измениться. Даже когда супруга прекрасна и юна — через год семейная жизнь набивает оскомину. Если жена на двадцать лет старше мужа — пресыщение наступает неотвратимо. И не лечится. Неприятные утренние сюрпризы. И не только утренние. Зелень ее глаз — всего лишь линзы. Идеальные фарфоровые зубы мало помогают против несвежего запаха изо рта по утрам. Какой ужас! Повредился грудной имплантант, пришлось удалять. Швейцария, клиника. У Веры груди повисли пустыми мешочками. И жалко, и противно. К тому же она — такая бывалая — оказалась поистине беспомощна, столкнувшись с любовью. Мастерица интриг, пророчица блестящих колонок, гуру женских сердец — рядом с мужчиной своей жизни Вера вела себя как влюбленная пятнадцатилетняя школьница.
Лавров старался быть к ней добр. Но оказалось, что его доброта ей не нужна. Ей нужна любовь. А любви нет, да и не было никогда.
— Делай, что хочешь, живи, как хочешь, — сказала она мужу полгода назад, глядя сухими глазами поверх его головы. — Только живи со мной. Спи с кем угодно, но всегда возвращайся домой. Я не отпущу тебя. Я не дам тебе развода. Я убью тебя, но не отпущу. Ясно?
Он кивнул. Это ведь ясно, ясно как день. Убьет. Сама не будет пачкать рук в крови и оружейной смазке, наймет киллера. Это правда, она читается на ее лице, в плотно сжатых губах, в сухом блеске глаз. Ее не переубедить, не уболтать. Недавно она купила на аукционе бронзовую фигурку мальчика в гостиную. Старая бронза дико смотрелась в суперсовременном хай-тековом[2] интерьере. Но она настояла: «Мне нравится! Он мой!» Чудовищные деньги отдала. Лавров мальчика жалел. Холодно ему, голому, в окружении стекла, металла, пластика. Неуютно ему. Впору завернуть в теплый шарф — как в детстве любимую плюшевую собаку. Но мальчик остался, и Дмитрий остался тоже. И стали они жить-поживать… Добро наживалось, а вот между ними добра осталось мало.

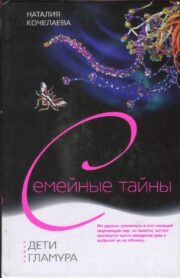
"Дети гламура" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дети гламура". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дети гламура" друзьям в соцсетях.