…Что до Долгорукова, то вполне понятно, что тридцатипятилетний холостой, импозантный красавец имел связи на стороне. Вся беда в том, что женитьба на Ирине не стала для него тем водоразделом, который четко отделил бы прошлую жизнь, от новой, семейной.
Почему это произошло? Предположений здесь множество, вплоть до женской цепкости его любовницы, которая ни при каких условиях не желала выпустить из рук принадлежащую ей добычу. Смог ли Долгоруков выпутаться из этих сетей или двух лет семейной жизни оказалось достаточно, чтобы он опять вернулся в них, мы уже никогда не узнаем.
Дети Ирины… «Ужасно за них, больно и жалко. Бог знает, что с ними будет», — сокрушалась сестра Николая II Ксения Александровна.
На просьбу потрясенного гибелью Ирины великого князя Николая Михайловича сообщить ему о них, она отвечала, что «Роман живет у отца в Кисловодске (место службы первого мужа Ирины. — Л.Т.), а остальные живут в Ессентуках у бабушки и нередко наезжают к отцу». Про дочь Ирины она писала: «Мари мне дала на память один из крестиков, который ты прислал матери в прошлом году… Она замечательная, милая девочка, Ирина всегда говорила про нее, что она совсем особенная!..»
Положение детей было терпимо, пока не началась революция. Она обернулась братоубийственной войной и репрессиями против «бывших». Посаженных в подвалы, которые заменили тюрьмы, косили голод и болезни. Если учесть, что полковник Илларион Воронцов-Дашков сразу же после революции влился в ряды белой армии, становится очевидным, что ожидало его детей, окажись они в руках комиссаров.
Счастье, что в просвещенных и гуманных дворянских семьях, к которым принадлежали и Воронцовы-Дашковы, нянюшки, с пеленок растившие барчуков, относились к своим питомцам с самоотверженностью и материнской любовью. В грозный час няня, служившая у Ирины, не побоялась смертельного риска и выдала детей покойной за своих. Можно было, наверное, написать приключенческую повесть о том, как простая крестьянка сберегла всех пятерых и в конце концов оказалась с ними в Париже.
Жизнь с памятью утрат, без родины, с постоянной надобностью заработать денег на существование. Так вместе со своими сверстниками из России взрослели дети Ирины.
Много лет спустя, купив свой первый автомобиль, ее младший сын Илларион, как рассказывали, сажал в него глухую, с седой трясущейся головой няньку и с шиком катал ее по Парижу.
«Совсем особенная» Маша с возрастом не потеряла этого качества и осталась таковой до конца своей долгой, в девяносто четыре года, жизни.
В книге, посвященной Мисхору и его обитателям, А.А.Галиченко и Г.Г.Филатова писали о дочери Ирины Васильевны следующее:
«Унаследованные от матери красота и душевные качества притягивали к себе окружающих и в то же время содержали какую-то волнующую загадку, заставляя людей держаться на расстоянии».
И ты пришла, необычайна,
Меня приметила впотьмах,
И встала бархатная тайна
В твоих языческих глазах.
Такими словами описал Владимир Набоков юную красавицу Марию Воронцову-Дашкову в посвященном ей стихотворении.
В Париже Мария вышла замуж за племянника Николая II, сына той самой великой княгини Ксении Александровны, которая когда-то называла ее «замечательной, милой девочкой». До конца своих дней Мария Илларионовна предпочитала оставаться подданной России, отказавшись принять иное гражданство, дававшее, разумеется, социальные блага, вовсе не лишние при эмигрантской доле.
Всю свою жизнь Мария Илларионовна возвращалась мыслью к кладбищу на горе и могиле, в сохранении которой она имела все основания сомневаться. В конце 70-х годов ей удалось передать на родину просьбу «отметить по-христиански место захоронения матери». Ее просьба, вопреки всем идеологическим установкам, была выполнена сотрудниками Алупкинского дворца-музея. На разрушенном и изувеченном мисхорском погосте, ко всеобщему удивлению окружающих, появилась новая небольшая мраморная плита с православным крестом и лаконичной надписью: «Ирина Васильевна Долгорукая. 1879—1917».
А теперь вернемся к тому роковому семнадцатому году.
Жизнь брала свое. Смерть Ирины заслонили другие события. В дневнике императрицы об этой трагедии больше записей нет.
Однако в семейной переписке Шереметевых имя Ирины поминалось часто. И тому были причины. Ее гибель не просто потрясла Павла — у него появились признаки душевной болезни. Конечно же были предприняты все меры, чтобы вызволить его из страшного состояния.
Лечение дало свои плоды. Но отец Павла, граф Сергей Дмитриевич не слишком обнадеживался «тихим и примирительным», по его мнению, состоянием сына.
Не без глубокой тревоги он писал из своего петербургского дворца на Фонтанке, имея в виду Ирину:
«Она все еще сидит в его голове».
После октябрьского переворота, не желая, чтобы художественные ценности, собранные за два века, стали добычей мародеров, старый граф Шереметев решил передать свой особняк новой власти. По его поручению Павел пошел к наркому просвещения Луначарскому и положил ему на стол связку ключей.
Шереметевы переехали в Москву, в свой родовой дом на Воздвиженке. Сергей Дмитриевич вскоре умер. Его похоронили в Новоспасском монастыре, там нашли последний приют уже несколько поколений их семьи по соседству со знатными москвичами, предпочитавшими, где бы они ни жили, упокоиться в земле древней русской столицы. Однако скоро надгробия Новоспасского монастыря были отправлены на хозяйственные нужды, могилы срыли, а за высокими стенами устроили тюрьму.
У Павла Сергеевича еще оставался шанс уехать. Он знал, что многие родственники и знакомые всеми правдами и неправдами сумели выбраться за границу и тем спасли себя.
Шереметев уехать не захотел. Ему исполнилось уже пятьдесят лет, когда он женился на княжне Прасковье Васильевне Оболенской, хотя по новым правилам следовало говорить — гражданке Оболенской. У супругов родился сын, назвали его Василий, по-домашнему — Василек.
К этому времени московский особняк Шереметевых на Воздвиженке национализировали, жить в городе было негде, и Павел Сергеевич с семейством перебрался в принадлежавшее им подмосковное имение Остафьево. Там они заняли комнату во флигеле, где раньше жила прислуга.
…Несмотря на все перипетии, Павел Сергеевич продолжал работу над историческими изысканиями. Еще до октябрьских событий он с группой единомышленников задумал издать серию книг, посвященных русской усадьбе.
В 1916 году вышла его работа, посвященная одному из самых интересных мест Подмосковья, имению Голицыных — Вяземам. Талантливый художник, Шереметев сам иллюстрировал эту книгу. Выходу следующего тома — об имении Апраксиных Ольгове — помешал семнадцатый год.
К усадьбе Остафьево Шереметев относился по-особому. И дело даже не в том, что она была куплена его родителями и являлась отчим домом. Остафьево — это достояние отечественной культуры, «русский Парнас», который помнил Карамзина, Вяземского, Пушкина. Великие замыслы, бессмертные строки рождались в тени остафьевских лип. Шереметев считал Остафьево музеем, созданным самой историей. Вот почему в столь опасное для «бывших» время он, вместо того чтобы затаиться, стучался в кабинеты совдеповских начальников и добился-таки для Остафьева охранной грамоты.
Павел Сергеевич радовался, как ребенок, строил планы относительно будущей экспозиции. Когда двери Остафьева открылись для экскурсантов, ему казалось, что вся жизнь его теперь оправдана сбережением этой жемчужины русской культуры.
Что касается собственной безопасности, то ему было невдомек, что лишь хлопотами авторитетных в глазах комиссаров людей — И.Э.Грабаря и В.Д.Бонч-Бруевича — он принят на работу в музей, водит экскурсии, имеет кусок хлеба.
Великолепный знаток русской литературы, Шереметев знал, конечно, знаменитое выражение М.Е.Салтыкова- Щедрина: «Не надо путать родину с начальством». Комиссары — комиссарами, а Россия — Россией, и он, граф, а ныне гражданин Шереметев, хочет ей служить.
На этот счет у него были доводы даже исторического характера. С одной стороны, он аристократ. Но с другой — ему, правнуку Параши Жемчуговой, графини-крестьянки, казалось, что та толика ее крови, что текла в его жилах, есть некое оправдание в глазах новой власти.
Шереметев и вправду всегда интересовался крестьянством, народным искусством, о котором много писал, полагал обязательной государственную поддержку старинным промыслам.
Он, объехавший всю Европу, насмотревшись на ее красоты, считал, например, большой бедой равнодушие просвещенного класса к исконной России, ее преданиям, памятникам, самобытному творчеству простых людей.
Он ставил в вину дворянству это небрежение и цитировал в своих статьях В.О.Ключевского: «…на протяжении двух столетий учреждались дорогие дворянские корпуса… но не открылось ни одной чисто народной общеобразовательной или земледельческой школы».
Сам же Шереметев писал: «Если обратить внимание на обстановку квартир большинства российских обывателей, то нельзя не прийти в ужас от того, что царит в ней. Отбросы претенциозного международного хлама в стиле „модерн“ вместе с отечественными подражаниями тому же хламу — все это производит жалкое впечатление, являясь проявлением полнейшего безвкусия».
…Казалось, дела обстояли не худшим образом. У него была любимая работа, хорошая семья, родное Остафьево. Впрочем, Шереметев ни на что не сетовал и даже считал — повезло. Главное — он дома, в России.
Долго, однако, такое благоденствие продолжаться не могло. В 1927 году Шереметев, как лицо буржуазного происхождения, был объявлен «лишенцем». Составленный им в том же году путеводитель по остафьевскому музею вышел без указания его имени.

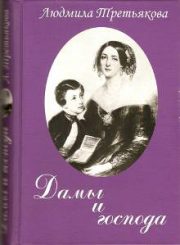
"Дамы и господа" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дамы и господа". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дамы и господа" друзьям в соцсетях.