«Ирина Долгорукая, по-видимому, заболела, — записала императрица 24 мая, — поскольку ее не удалось добудиться, несмотря на все попытки… Она приняла слишком много снотворных пилюль — странная, жуткая история».
Очевидно, в то время Ирина постоянно прибегала к снотворному — вероналу. В доме об этом знали, оттого первые часы не было никакой паники.
Невозможно не задаться вопросом: отчего у благополучной и, как все вокруг полагали, счастливой женщины появился на туалетном столике веронал? Какие думы и страхи, имеющие обыкновение одолевать на ночь глядя, не давали Ирине уснуть? Едва ли такое лекарство покупают впрок: на него надеются, как на возможность хотя бы ненадолго защититься от душевной боли.
Наверное, какое-то время веронал избавлял Ирину от «угнетения», про которое она писала великому князю. Но с наступлением утра ей приходилось возвращаться в ту самую жизнь, что сделалась нестерпимой. И никакого выхода уже не было: веронал, принятый на ночь, должен был помочь уснуть навсегда.
…Прошли сутки с момента первой тревоги из Мисхора. Записи императрицы таковы: «Плохие новости о бедняжке И.Д. (Ирины Долгоруковой. — Л.Т.), она все в том же состоянии, никак не очнется… врачи ничего не могут понять».
Действительно, лежавшая в постели женщина дышала ровно и спокойно. Казалось, что вот-вот она проснется.
Близкие были настолько обнадежены этим, что при всей тревоге в доме продолжалась похожая на прежнюю жизнь. Дети под присмотром бонны резвились на пляже, а когда императрица заехала в Мисхор узнать, как дела, то, по ее словам, «Сережа (Долгоруков. — Л.Т.) пригласил нас пройти в дом, где нам предложили чай».
Приближение катастрофы, пожалуй, чувствовала только вызванная телеграммой мать Ирины — императрица заметила, что та постарела буквально на глазах.
Второй день зловещего сна как будто принес надежду: лицо спящей порозовело, на щеках заиграл румянец. Кто- то сказал: «Посмотрите, она просыпается». Однако врачи молчали и оставались хмурыми. Температура у несчастной поднялась к вечеру до сорока. Консилиум медиков высказал предположение, что началось воспаление легких — в скором времени это даст возможность родственникам Ирины назвать официальную причину ее смерти.
Истекли еще два дня, когда теплилась надежда, что «спящая красавица» очнется от долгого сна. Но несчастье уже стояло на пороге мисхорского дворца и только ждало минуты, чтобы заявить о себе.
На четвертый день Ирина скончалась. Поставив дату очередной записи — 28 мая 1917 года, — императрица вывела непривычным, угловатым почерком:
«Какая трагическая и жуткая история: красивая молодая женщина и бедные дети, которые все останутся теперь одни!..»
Через час после известия о смерти Ирины императрица находилась в Мисхоре, в спальне покойной, где собрались знакомые, родственники, среди них были две свекрови и первый муж, приехавший с Кавказа. Печальная картина предстала перед ее глазами:
«Ирина, красивая и умиротворенная, лежала на постели, которая была чудесно убрана цветами ее несчастными детьми. Грустно! Она, такая молодая, в расцвете своего счастья, внезапно покинула навсегда мужа, детей, мать и всех, кто ее любил. Я не могу обвинять ее, но какая это трагедия для семьи покойной!»
Вынос гроба и панихиду в церкви маленького крымского селения Кореиз императрица назвала «душераздирающими»: «Для утешения несчастных детей в их неописуемом горе в связи с потерей такой замечательной и несравненной мамы священник произнес несколько красивых и трогательных слов. Затем мы все пешком проследовали за катафалком по узким кореизским улочкам».
И в печальном шествии была своеобразная красота, глубоко трогавшая сердца провожавших Ирину в последний путь.
Одна из свидетельниц вспоминала: «Моя первая встреча со смертью, когда меня привезли попрощаться и поцеловать руку умершей… По русскому обычаю гроб несли открытым до самой могилы, а она лежала, покрытая белыми розами.
Дорога от дома до кладбища была усеяна розами, даже на деревьях — от дерева к дереву, — как гирлянды, висели розы. Пение хора, пение священника, аромат роз, смешанный с ладаном, яркая голубизна неба и темное отражение моря, которое, казалось, было у наших ног в то время, как мы стояли у могилы, — все осталось в памяти ярко…»
Когда стали опускать гроб в могилу, «раздался сильный раскат грома, начался ужасный ливень…»
Дневниковые записи Марии Федоровны не только позволяют восстановить последние страницы незадавшейся женской судьбы. Весьма примечательно замечание, которому сама хозяйка дневника едва ли придала значение. Ясно, что место последнего упокоения для Ирины Васильевны отвели вне кладбища. А ведь известно, что именно так хоронили самоубийц. Отсюда напрашивается вывод, что духовенство, да и врачи тоже, не подвергали сомнению то, что Ирина ушла из жизни добровольно. Если учитывать воззрения верующего человека, которым, безусловно, она была, это накладывает на ее жизнь и гибель особенно трагическую печать.
…После похорон начался период больших и маленьких семейных неувязок и проблем, которые, наверное, специально посылаются, чтобы отвлечь людей от недавней утраты.
Оказалось, что Илларион приехал на похороны Ирины с новой женой, которая, не желая обнаруживать себя, остановилась в ялтинской гостинице. И все бы ничего, если бы деликатность не изменила отцу еще не пришедших в себя детей. Между тем он повез всех пятерых к своей супруге. Детям не говорили, что их отец женился. Для старших, Романа и Маши, эта встреча стала еще одним потрясением. К тому же они узнали, что отец решил их взять к себе на Кавказ.
…Безутешно рыдала Маша. Девочке, так привязанной к матери и только что потерявшей ее, расставание с дорогой могилой принесло новое горе. Она теперь ходила туда каждый день под присмотром своей гувернантки, мисс Молли, на место увядших цветов клала только что срезанные и подолгу молча сидела на камне, пока англичанка едва ли не силком уводила ее.
Императрица, сочувствуя сломленной горем матери Ирины, для которой внуки оставались единственным утешением, пыталась отговорить Иллариона от его затеи и оставить детей бабушкам. Но тот избегал встреч и объяснений. В результате его все-таки удалось убедить не прибавлять горя старикам, и он увез с собой на Кавказ только старшего сына Романа.
Почти каждый день у императрицы в Ливадии бывал вдовец Долгоруков, подолгу говорил «о своей прелестной жене» и о том, что теперь смысл его жизни составляет крошечная дочь…
Между тем тайное все же стало явным. Причину, приведшую Ирину к гибели, назвала одна из тех незаметных личностей в доме, которые зачастую оказываются куда осведомленнее хозяев. Ею оказалась бонна-англичанка Маши.
Она рассказала, что Долгоруков состоял в давней любовной связи с некоей высокопоставленной дамой. Ни его женитьба, ни рождение дочери не помешали ему продолжать прежние отношения с любовницей.
Об этом и узнала Ирина.
…Трудно представить себе, что несчастная женщина решилась на развод и второе замужество, не будучи уверенной в любви и преданности нового спутника жизни.
Почему Долгоруков не женился на ней раньше — когда она была фрейлиной Нарышкиной? Такой вопрос, конечно, правомерен, но и ответ на него уже дан опытом многих судеб: всегда ли по молодости можно истинной мерой определить силу своих чувств? Кто-то явно преувеличивает их и спешит соединить себя узами брака как будто лишь за тем, чтобы долго, иногда всю жизнь, расплачиваться за свою поспешность.
Но бывает и по-другому. Человека мучают сомнения, он боится решительного шага: а вдруг завтра нынешняя любовь покажется миражом. Как быть тогда?
Долгоруков и Ирина доводились друг другу троюродными братом и сестрой. Вряд ли есть человек, в чьей молодости не случалось влюбленности в какого-нибудь родственника- студента или в кузину, впервые пробующую на своей жертве чары пробуждающейся женственности.
Но эти полудетские романы скоро уходят в прошлое, их заслоняет новое взрослое чувство. Конечно, бывают такие обстоятельства, когда юная любовь, казалось бы ставшая воспоминанием, вдруг, подобно тлеющей искре, разгорается в костер.
Что-то похожее, возможно, произошло и в отношении Долгорукова к Ирине. Милая кузина, смотревшая на него влюбленными глазами, превратилась в роскошную, зрелую женщину. И если чутьем опытного мужчины он понял, что не забыт ею, надо было ожидать возврата в их общее прошлое.
Алупка и Мисхор, которые соседствовали так тесно, сыграли роль ловушки. Ирина и Долгоруков виделись едва ли не ежедневно. Ливадия? Но и там они на глазах друг у друга — то на танцевальном вечере, то за чаем у императрицы. При взаимном охлаждении Ирины и Иллариона, при пособничестве полных неги и тишины южных вечеров — далеко ли до мысли: это любовь и надо что-то делать?
Заурядный адюльтер, который в подобных ситуациях многие сочтут наиболее правильным выходом из положения, для Ирины был невозможен. Положение любовницы унизило бы в ее собственных глазах чувство к Долгорукову.
Немало женщин заводят любовные интрижки как средство от однообразия супружеской жизни. Свидания тем и привлекательны, что они тайные. Любовник тем и ценен, что отнюдь не претендует на роль мужа. А еще такая жизнь поднимает женщин в собственных глазах, они, точно любимые публикой примадонны, которые умудряются в один день играть в двух спектаклях и ни в одном не перепутать слова.
Если кто-нибудь из них узнает о подобных проделках собственного мужа, то, безусловно, огорчится, но едва ли надолго. Скорее всего, все останется на своих местах. Наверное, для такой жизни действительно нужны особые способности. Ирина же их была напрочь лишена.
Она принадлежала к тому типу женщин, на верность которых можно положиться. Но и у них есть свои требования — такая же верность со стороны избранника. Многие считают, что в жизни всякое бывает, а бескомпромиссных на сей счет людей называют, мягко говоря, странными. Возможно, так оно и есть. Да, но и сама любовь, по утверждению знаменитого русского философа Н.А.Бердяева, «за вычетом отдельных мгновений — самая печальная сторона человеческой жизни… Любви присущ глубокий внутренний трагизм, и не случайно любовь связана со смертью… Любовь, в сущности, не знает исполнившихся надежд».

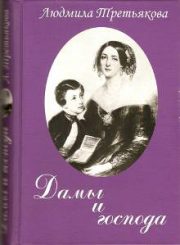
"Дамы и господа" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дамы и господа". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дамы и господа" друзьям в соцсетях.