«Утром Дени принес мне кольцо, — размышляла Флори, лежа в постели по возвращении из Тура. — Значит, Гийом скоро будет меня ждать там, внизу. Но это же невозможно! Не сейчас! Не этой ночью! Не после этих минут, проведенных у изголовья постели отца!»
«Как всегда, когда все в доме уснут, я пойду в башню, — решила Флори, — чтобы на этот раз поговорить с Гийомом, рассказать ему о том, что происходит. В конце концов должен же он меня понять! На этот раз дело не в капризе, речь идет о моральном обязательстве перед умирающим… и каким умирающим! Перед отцом, от которого я до нашего преступления не видела ничего, кроме большой нежности, и последние годы жизни которого я так омрачила. Обмануть его еще раз, в этот самый вечер, прекрасно понимая, что это значит, было бы худшей из низостей. Я не могу на это пойти. Если Гийом не поймет этих моих угрызений совести, значит, он любит только мое тело, значит, я погибла ради человека, не достойного такой жертвы!»
III
Как казалось метру Брюнелю, на его руках за время болезни появилось больше усеивавших их бурых пятен.
Усевшись в выставленное на площадку перед входом в дом кресло с высокой спинкой после полуденной трапезы, удобно обложенный подушками, он критически осматривал эти приметы времени, которые бабушка Марг называла попросту «кладбищенскими цветами» Не успевшее пока еще подняться слишком высоко солнце в этот час октябрьского дня проливало па выздоравливавшего смягченный свет, способствовавший восстановлению его сил хорошему настроению и с большей неумолимостью выявлявший признаки старения, с которыми ему было трудно мириться.
— За несколько недель я постарел на десяток лет, — говорил он, хмурясь.
— Не нахожу причин для такого вывода, мой друг, — отозвалась Матильда, сидевшая рядом с шитьем в руках — Вы едва выбрались из болезни, совершенно вас изнурившей, и хотите, чтобы к вам тут же вернулась ваша прыть! Немного терпения! Вместо того чтобы жаловаться на всякие пустяки, возблагодарили бы Бога за его милость к вам!
— Черт возьми, вы рассуждаете, как ваш дядя-каноник! — проворчал Этьен, настроение у которого было неважным. — Он, однако, признает, что все мы жалкие, несовершенные создания. И что в этих условиях нам не пристало просить больше того, чем мы сами можем дать!
Матильда снисходительно пожала плечами и промолчала. Она пока еще слишком живо воспринимала благо обретенного покоя, чтобы быть расположенной к ссоре.
— Сегодня на ужин, кажется, у нас каштаны со сладким сидром, — проговорила она, помолчав, — Я попросила Сюзанну приготовить для вас вместо них овощной суп. Думаю, что это будет более легкая еда.
Приступы Этьена сначала стали менее болезненными, случались все реже и реже, а потом и вовсе прекратились, хотя и неизвестно почему. Потом началась лихорадка. Доктор заявил, что подействовало его лекарство, Маруа относила это за счет своего отвара, ювелир же упирал на свой могучий организм. Матильда ограничивалась воздаянием благодарности Богу. Она была ему тем больше признательна, что болезнь мужа, что бы он ни говорил, не затянулась и не подорвала его здоровье. Он быстро поправлялся. Жена его относила это также и за счет примирения Этьена со старшей дочерью.
— Вы, конечно, будете говорить, что я слишком полагаюсь на Провидение, — сказала она, — но это не мешает мне думать, что, не перенеси вы это такое тяжелое заболевание, вы по-прежнему отказывались бы простить Флори и что мы не наслаждались бы теперь здесь, в ее доме, семейным миром, столь же дорогим вам, как и мне.
Этьен ответил не сразу. Он рассеянно смотрел на служанок, собиравших под деревьями, окружавшими дом, те самые каштаны, которые будут поданы к ужину. Чтобы не укалывать пальцы колючей скорлупой, они со смехом разбивали ее сильными ударами пяткой, а затем не без осторожности собирали гладкую коричневую сердцевину в корзины. Вокруг них в темпе колеблющейся каролы падали длинные шафрановые листья, золотевшие в лучах солнца.
Метр Брюнель говорил себе, что приятно смотреть на эту молодость, окруженную золотистым сиянием, и что, говоря откровенно, их пребывание в Вансэе проходит так хорошо, как это только возможно.
— Да, дорогая, ваша идея переехать на время моего выздоровления к Флори была хороша, — согласился он, смягчаясь. — Флори принимает нас с заботой, которая меня очень трогает.
Раньше у него было другое мнение! Молодой женщине, очень часто навещавшей отца, пришлось долго настаивать на этом. Такому решению способствовало и понимание того, что с каждым днем их присутствие у своих турских хозяев обременяет их все больше и больше, и наконец оно было принято.
Ювелир до этого времени всегда уклонялся от визита к дочери, но Матильда считала, что любопытство, бывшее одним из слабых мест мужа, также сыграло в этом свою роль, чего Этьен, возможно, и не осознал.
Все пять дней, как они переехали в Вансэй, ожидавшийся мир не нарушался. Флори приняла родителей ласково, с уважением, с признательностью, окружила их тысячью знаков внимания. Она теперь уходила в приют Гран-Мон только по утрам, чтобы посвящать все остальное время тем, чье пребывание под крышей ее дома значило для нее так много.
Внезапно сторожевая собака, которую теперь чаще всего привязывали в будке за домом, вдруг разразилась яростным лаем. Ее лай помешал расслышать шум, сопровождавший появление нескольких лошадей между стволами каштановых деревьев.
— К нам пожаловали наши друзья из Тура, — объявила Матильда.
Луи Эрно, Беранжер и ее брат, спешившись, приближались.
Все они нашли Этьена в прекрасном состоянии и, прежде чем рассесться вокруг него, без конца его с этим поздравляли. Одну из служанок, принесших сиденья для гостей, Матильда послала за Флори. Молодая женщина после обеда ушла в башню, что стояла в конце сада, в которой поселилась, уступив свою комнату родителям, что было вполне естественно. Она быстро присоединилась к собравшейся компании. Ей был представлен Бернар Фортье, которого она до сих пор не знала.
Что знала Беранжер о причинах, заставивших женщину возраста Флори, такую очаровательную и состоятельную, жить без супруга, вдали от родителей, от всей светской жизни, в изоляции, которой, казалось бы, нет оправдания? Брюнели об этом не говорили. Во время их предшествовавших приездов в Тур Матильда ограничивалась разговорами о Кларанс и лишь осторожно намекала на другую дочь, жившую в этих краях. Болезнь Этьена, последовавшее за нею примирение, частые посещения дочери вынудили Матильду дать какие-то смутные объяснения, которых, разумеется, было недостаточно, чтобы удовлетворить любопытство Беранжер. Однако она не ставила никаких неловких вопросов.
Подали сидр, молодое вино, соты с медом, свежие орехи, айвовый мармелад.
Луи Эрно, здоровяк с лицом любителя выпить, строивший из себя бонвивана[1], удачливый в делах и не обременявший себя излишней щепетильностью манер, не преминул изложить парижскому ювелиру причины, побудившие брата его супруги отправиться с ними в Вансэй.
— Бернар — суконщик в Блуа, — заговорил он. — Его дело, унаследованное от отца, идет хорошо, но его нужно расширять. Вот я и вспомнил о вашем друге — вы как-то говорили мне о нем, — занимающемся тем же ремеслом в Париже.
— Вы имеет в виду Николя Рипо?
— Вот именно! Не могли бы вы замолвить перед ним пару слов о моем свояке? В этом возрасте всегда нужна поддержка, и ему было бы очень полезно войти в контакт с одним из самых значительных членов его цеха в Париже. Он деятелен, честолюбив, не боится работы, умеет понравиться клиенту. Я думаю, что вы сами убедитесь в том, что он заслуживает внимания к себе.
— Не сомневаюсь в этом и буду рад поговорить о нем с моим другом Рипо.
Пообещав только что заняться молодым человеком, Этьен присматривался к брату Беранжер более внимательно.
Лет двадцати, крупный, может быть массивный, но без лишнего веса, с цветущим лицом под эффектными волосами, подвитыми хорошим парикмахером и цвета мореного дуба, блестящие каштановые глаза, мясистый нос, большой рот, созданный, кажется, специально для того, чтобы смеяться, но и кусать тоже всею полной зубов пастью еду, женщин и деньги, когда представляется случай, этот человек выглядел бы наделенным сердечностью, не проглядывай сквозь видимость веселости, откровенности какая-то чрезмерная жадность, суетливость, заставлявшая усомниться в его искренности и беспристрастности.
«Ба! — сказал себе Этьен. — Кто может порицать человека за это? Немного амбиции никогда не мешает, в конце концов это лучше, чем лень!»
Бернар, разговаривавший с Матильдой, Флори и Беранжер, разразился громким смехом, каким-то аппетитным и звенящим.
«Я не отказался бы иметь такого зятя, — подумал метр Брюнель. — Не надо забывать, что у меня в Париже две дочери на выданье… Когда он приедет в столицу по какому-нибудь делу, надо обязательно пригласить его к нам и представить Жанне. Для нее самое время избавиться от своего рифмоплета и серьезно подумать, как получше пристроиться!»
— Вы не скучаете совершенно одна в этой компании? — спрашивала тем временем Беранжер молодую хозяйку.
— Вовсе нет. Я занимаюсь садом, цветами, а главным образом сиротами из Гран-Мона.
— И все же вести такую отшельническую жизнь в вашем возрасте!
— Я живу такой жизнью, какая мне нравится, дорогая мадам, такой, какая мне нужна.
Беранжер не настаивала на продолжении этой темы. Они заговорили о чем-то другом.
Когда гости ушли, Этьен сообщил жене и дочери о своих матримониальных проектах, пришедших ему в голову за десертом.
— Вы скоры на руку, друг мой! — заметила Матильда. — Едва увидев впервые брата Беранжер, вы готовы сделать его мужем одной из дочерей! Не слишком ли это легкомысленно с вашей стороны?

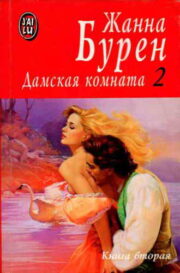
"Дамская комната" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дамская комната". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дамская комната" друзьям в соцсетях.