Но о Рине этого сказать было нельзя. Чтобы пережить горе, ей нужно было кого-то ненавидеть, кого-то винить. Рина не была знакома с конгрессменом Уэлленом, он казался ей одним из тех небожителей, что, не вылезая из своих роскошных кабинетов, играют судьбами людей. Она во всем винила его. И когда надолго охватившее ее оцепенение наконец прошло, поняла, что в сердце у нее занозой сидит настоящее отвращение к этому типу.
Кил же Уэллен, вернувшись после успешных для него выборов в Вашингтон, набросился на дела как безумный. Борьба за принятие законов и законопроектов стала для него лекарством от боли. Сильный человек, горец, он и ветрам противостоял так же упорно, как скалы и пики Голубого хребта[1]. К тому же время медленно, но верно исцеляло раны.
У Рины Коллинз дела обстояли гораздо хуже. Много недель она просто не выходила из шока, а потом, примирившись с происшедшим, проводила целые дни в слезах, не в силах и рукой пошевелить. Ну почему, вновь и вновь спрашивала она себя, она не оказалась в этот момент в доме, чтобы умереть, чтобы уйти в небытие вместе со всем, что составляло ее жизнь? Она святотатственно проклинала Бога, взявшего ее детей, ее мужа и оставившего ее одну.
А когда, наконец, она пришла в себя настолько, чтобы хоть чем-то заняться, выяснилось, что выдерживать участие друзей невозможно; ибо, как ни старалась она быть им благодарной за все, что они для нее делали, друзья, все до единого, напоминали ей о том, что она потеряла. Для них жизнь продолжалась. Билл Херберт играл в гольф. А Пол уж никогда не возьмет клюшку в руки. Дети подруг садились в школьные автобусы, матери готовили им завтрак, малыши возились в своих колясках, заходясь смехом. У нее всего этого больше нет. Никогда больше не взять ей на руки свою малышку.
Через полгода после трагедии брат Рины Тим, всерьез опасаясь за душевное здоровье сестры, связался со своим бывшим однокашником, который, с его точки зрения, наилучшим образом подходил для того, чтобы вытащить Рину из привычной среды, где ей было так плохо.
— Не валяй дурака, Тим, — безжизненно усмехнулась Рина. — Пол оставил большую страховку. Работа мне не нужна. Да и не умею я ничего делать! Я всегда была просто женой. И… матерью. Я умею играть в покер, смешивать коктейли, накрывать на стол. И это все.
— Рина. — Тим попытался засмеяться, но попробуй, засмейся, когда сестра в таком ужасном состоянии. — Так это же как раз то, что нужно! Тебе необходимо чем-то заняться. Жизнь продолжается! И в этом смысле предложение Доналда Флэгерти как раз для тебя. Это богач, каких во всем мире по пальцам можно пересчитать. Секретарша ему не нужна, и умница-референт тоже. Зато ему требуется привлекательная хозяйка, которая умеет поддержать разговор. Послушайся меня, Ри, соглашайся. — Тим наклонился и взял сестру за руку. — Понимаю, сейчас тебе кажется, что лучше всего умереть. Понимаю, Пол и дети составляли всю твою жизнь. Но я люблю тебя, Рина, и мать с отцом тоже любят. Так хотя бы ради нас…
У Рины на глазах выступили слезы. Она знала, каким ударом для ее родителей оказалась гибель внуков, но, по крайней мере, их дочь осталась в живых. И хотя она гневила Бога, коря его за то, что он не дал ей умереть вместе с мужем и детьми, Рина знала, что для родителей и брата она — единственный лучик надежды. Милый, славный Тим. Стоит и глаз не сводит с ее заплаканного лица, не зная, как помочь.
— Ну ладно, — наконец выговорила она. — Если этому твоему приятелю-крезу нужен кто-то, умеющий смешивать коктейли и играть в карты, я готова.
Спустя всего месяц Рина уже хвалила себя за то, что приняла предложение Доналда Флэгерти, известного филантропа и к тому же умного, чуткого человека. А бороздить на яхте моря и океаны оказалось занятием интересным. Боль так и не прошла, но Рина кое-как к ней притерпелась и по прошествии года снова научилась улыбаться, а порой даже и смеяться.
Работа требовала от нее умения быть хорошей хозяйкой. И она действительно ею стала. Красавица, чаровница, которая всех держит на некотором расстоянии.
Вскоре Рина сделалась всеобщей любимицей. И сам Дон Флэгерти, и его партнеры, друзья, служащие называли ее Дамой Червей.
Глава 1
— Вы еще не видели ее с поднятыми парусами! Один брамсель чего стоит. Как только наполнится ветром, так это суденышко прямо-таки полетит по волнам. Настоящая красавица! Ничто не может с ней сравниться, вы уж мне поверьте, Рина.
Глен Тривитт, судовой врач, с таким энтузиазмом расписывал яхту «Сифайр», которая готовилась совершить свой первый рейс — после покупки Доналд Флэгерти основательно ее переоборудовал, — что Рина не могла сдержать улыбки. Таким энтузиазмом нельзя было не заразиться, как нельзя было не восхищаться самой яхтой.
Вот уже час, как они с Гленом наблюдали за портовой суетой в Майами, стоя на носу одного из старейших в мире частных парусников. Пассажиры готовились к посадке. Глен вновь принялся восторгаться горделивой осанкой яхты.
— Вы правы, Глен, она действительно великолепна. — Рина тоже посмотрела наверх, где прямо в небо смело вонзались высокие мачты. — Не дождусь, когда она распустит все паруса.
— Боюсь, мне ими не полюбоваться, — ухмыльнулся Глен. — Судя по списку пассажиров, у нас на борту полно старушек, а это такая публика, которую с утра до вечера надо убеждать, что смерть от морской болезни им не грозит.
— А вы заранее раздайте побольше драманина, — рассмеялась Рина, — вот все проблемы и решатся. К тому же, — добавила она, поворачиваясь в сторону трапа, — у нас в гостях, похоже, не только старушки.
— Ах, вот как?
Высоко подняв брови, Глен вцепился в перила, посмотрел вниз и, увидев поднимающихся на борт пятерых оживленно о чем-то болтающих и пересмеивающихся молодых женщин, негромко присвистнул. Дамы были одеты с небрежной элегантностью, которая, однако, явно стоила модельеру немалых усилий: очень короткие юбки, широкополые шляпы, высокие сапожки с отворотами и жемчужные ожерелья. Рина не могла не оценить их наряды, тем более что сама она в светлой юбке и жакете выглядела, как ей казалось, довольно нелепо. По идее, на островах Карибского бассейна были бы уместны джинсы или шорты; а если охота покрасоваться, то изяществу и красоте судна соответствовали бы развевающиеся шелка. Но в настоящий момент ни соображения удобства, ни тем более всякие там выкрутасы в расчет не принимались. Доналд распорядился, чтобы вся обслуга — команда, стюарды и так далее — при отходе яхты были одеты «с достоинством».
— Гм, эту компанию я бы не прочь покормить драманином, — небрежно бросил Глен, — да только уж больно они хвост распушили, не подберешься. — Заметив пассажиров, следующих за этой роскошной пятеркой, он добавил: — Ну вот, большие шишки пожаловали.
Рина тоже обратила внимание на группу вальяжных мужчин, приближающихся к трапу: все в строгих деловых костюмах, у всех в руках портфели.
— Конгрессмены? — спросила она.
— А также сенаторы и дипломаты.
Какое-то время они молча смотрели на своих будущих пассажиров. Хотя вообще-то яхта была куплена в расчете на регулярные круизы, оба понимали, что этот рейс — первый за последние двадцать лет — будет особым. Часть кают была продана, однако же большинство мест предназначалось для специально приглашенных гостей.
Доналд Флэгерти был связан с целым рядом благотворительных и общественно-политических организаций. Пожалуй, больше всего его занимали проблемы, связанные с ядерным разоружением. Поэтому он и пригласил прокатиться на своей новой яхте массу знакомых со всего света: в ходе круиза предполагалось провести конференцию на тему «Мир без ядерного оружия». Список пассажиров получился впечатляющим. Здесь были видные люди не только из Англии, Франции, Германии и других западных стран, но также из КНР и Советского Союза[2]. А помимо того — три американских сенатора и как минимум с полдюжины конгрессменов.
— Подумать только, — вздохнул Глен, — они, видите ли, будут развлекаться морской прогулкой, принимать солнечные ванны, а нам с вами, рабочим лошадкам, придется ублажать эту знатную публику.
Рина снова не удержалась от смеха. Непонятно как, но Глену Тривитту всегда удавалось поднять ей настроение. Обычно она, несмотря на все усилия быть со всеми вежливой и приветливой, была погружена в себя. Не то чтобы она сознательно отстранялась от других, просто так получалось. Хотя Рина и научилась заново общаться с людьми, болтать, словом — жить повседневной жизнью, никто, кроме Доналда, к которому она искренне привязалась, особого интереса у нее не вызывал. Но месяц назад, познакомившись — уже на службе у Доналда — с Гленом, Рина обнаружила, что ей снова хочется смеяться. Этот среднего роста и ничем особым не примечательный мужчина лет сорока ей нравился. Глаза у него были светло-голубые, почти бесцветные, но смотрели они на собеседника с глубоким и сочувственным вниманием. Рина не сомневалась, что ему известно ее прошлое — а кому оно здесь неизвестно? — но только он никогда не заговаривал на эту тему. С ним всегда было приятно и легко. В этих бесцветных глазах угадывалась настоящая мудрость, в них светился цепкий, проницательный ум.
— Глен, — заговорила Рина, упершись ладонями в гладко отполированные, успевшие изрядно нагреться на солнце поручни, — не думаю, что нас с вами ожидает такая уж тяжкая работа. Будем надеяться, что никто не заболеет. Ну а что касается меня, то вряд ли сдача карт и приготовление коктейлей — такое уж непосильное бремя, а особенно если делаешь это ради Доналда. Если бы я не знала, что у него денег больше, чем все бухгалтеры на свете способны сосчитать, то постеснялась бы вообще что-нибудь у него брать.
— Да бросьте вы, Рина, — запротестовал Глен. — Вас за одно только появление на палубе нужно золотом осыпать.
— Спасибо. — Уловив искорку, промелькнувшую в его глазах, Рина ощутила некую неловкость. Она знала, что нравится ему, и это ее смущало. Иное дело, если б у нее самой было к нему какое-то чувство, если бы его прикосновения, звук голоса хоть немного возбуждали ее. Но она испытывала к Глену лишь обыкновенную симпатию, и было бы жаль оборвать тонкую нить этой необременительной дружбы.

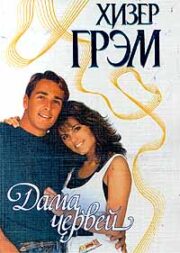
"Дама червей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дама червей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дама червей" друзьям в соцсетях.