– Неужели они заходят так далеко?
– Поверьте мне, – сказал он кратко, – и они не знают, как вернуться обратно.
Он отвёл глаза в присущей ему откровенной манере, как человек, не решающийся прочесть распечатанное письмо из опасения, что на его лице предательски отразятся чувства, которые он, возможно, испытает при чтении.
– Может быть, тут была и ваша вина. Вы когда-нибудь давали женщине время привыкнуть к вам, стать более мягкой, успокоиться?
– Как же! – насмешливо произнёс он. – Что значит покой? Огуречная маска на ночь и по утрам газеты в постель?
Верхняя часть его тела слегка, едва заметно качнулась – это был первый признак нервного утомления.
Я не нарушала молчания, не прерывала скупых слов мужчины, который всю свою жизнь вёл переговоры с противницей, не снимая доспехов, не допуская в любви такой поблажки, как отдых…
– Одним словом, Дамьен, у вас такое же представление о любви, как у девушек в давние времена, когда воина представляли только с мечом в руке, а влюблённого – как человека, постоянно готового доказывать свою любовь?
– Где-то так, – снисходительно подтвердил он. – Женщинам, которых я знал, не придётся на это жаловаться. Я хорошо их воспитал. И что же они дали мне взамен…
Он встал. Я испугалась, что где-то уже встречала этого разочарованного менялу и общалась с ним ещё более близко. Я боялась, что его тайна того и гляди скукожится и он превратится из Дон Жуана в злополучного кредитора. Поэтому я поспешила произнести в ответ:
– Что они вам дали? Я думаю, своё страдание. Вам не так уж мало заплатили!
И тут он показал мне, что не позволит своему герою вертеть собой и не завидует ему.
– Своё страдание… – повторил он. – Да, их страдание. Это очень туманно. Я не настолько им дорожу, как вы полагаете. Страдание… Я не злодей. Я хотел бы только, чтобы мне вернули – хотя бы на миг – то, что я дал.
Он хотел уйти, но я его удержала:
– Скажите-ка, Дамьен… Кроме мужчин, с которыми вы переговаривались у меня на глазах, у вас были, у вас есть друзья?
Он улыбнулся:
– Что вы!.. Они бы такого не вынесли.
Среди этой лавины женщин – ни единого водостока, ни единой вентиляционной трубы с пригодным для дыхания воздухом… Однако в тот миг, когда жизнь этого человека стала внушать мне ужас, я тут же поняла, что всякое исправление, всякое «покаянное» переписывание рисунка сделало бы из отчасти легендарного образа жалкую карикатуру: жизнерадостный Дамьен, обиженный злыми женщинами и утешаемый добрыми друзьями, которые похлопывают его по плечу со словами: «Забудь об этом… Дай я обниму тебя, друг…» Едва лишь я представила себе эту последнюю степень падения, как Дамьен успокоил меня с жёсткостью, которая заменяла ему, за неимением прочих достоинств, чувство собственного достоинства.
– Мне не о чем говорить, мне всегда было не о чем говорить с мужчинами. За то недолгое время, что я с ними общался, их разговоры в основном вызывали у меня отвращение, и, кроме того, они наводят на меня скуку… Мне кажется, – сказал он неуверенно, – мне кажется, что я их не понимаю.
– Вы преувеличиваете, Дамьен. Если бы в силу необходимости зарабатывать себе на хлеб вы были вынуждены сблизиться с мужчинами, делить с ними житейские будни или если бы женщины просто-напросто разорили вас материально…
– Разорили? Почему разорили? Какую роль играют деньги в том, что вас занимает и удерживает нас здесь – я спрашиваю себя: зачем? – в столь поздний час?
Он терял терпение и, осознав это, спохватился.
– Вам внушили, – продолжал он мягче, – что мысль о деньгах неизбежно примешивается к любви. Вам внушили…
Он улыбнулся – он был в приподнятом настроении, невзирая на глубокую ночь.
– Жаль, что у вас нет сына. Я бы научил его двум словам, которые должен знать такой мужчина, как я…
Я заупрямилась:
– …и которые, скорее всего, ему бы не пригодились, ибо я как-то не представляю себе, чтобы мой сын был таким мужчиной, как вы…
– Не отчаивайтесь, – произнёс он с обидной нежностью. – Не у всех может быть сын, похожий на меня. Я знаю от силы двух-трёх таких людей, и они весьма скромны… Всё же я скажу вам два этих слова, которые покажутся вам непонятными. Вот они: ничего не давай и ничего не принимай.
Я посмотрела на него ошалело.
– Вот видите, – весело констатировал Дамьен. – Это меня радует. Я всегда немного опасался, что вы умнее других. Любезная подруга, я прошу прощения, что задержал вас…
– Подождите, – вскричала я, хватая его за рукав. – Если вы дорожите своей репутацией, объяснитесь. То, чего я не понимаю, обычно не внушает мне почтения. «Ничего не давай…» Что значит – ничего?
Ни цветов, ни венцов? Ни украшений, ни банкнот, ни произведений искусства? О чём идёт речь: о безделушках, золоте, доверии, движимом или недвижимом имуществе?
Он многозначительно склонил свою круглую, прекрасно сработанную голову:
– Именно обо всём этом. Я признаю, что трудно не нарушать правил. Но вскоре догадываешься, что браслет отравлен, кольцо скрывает измену, бумажник и ожерелье вносят в сны беспокойство, а деньги утекают в игорный дом…
Я забавлялась тем, что он вновь обрёл свой назидательный тон, гордится мудростью, до которой дошёл своим умом, и высокомерен, как сельский искатель подземных родников.
– Не следует ни давать, ни получать? – сказала я со смехом. – А если любовник беден и любовница терпит нужду, значит ли это, что Она и Он должны деликатно позволить друг другу умереть?
– Дайте им умереть, – отозвался он.
Я проводила его до застеклённой двери вестибюля.
– Дайте им умереть, – повторил он снова. – Это не самое страшное. Я готов поклясться честью, что никогда ничего не дарил, не одалживал и не давал взамен, кроме… этого…
Он указал на себя и описал обеими руками замысловатый жест, слегка прикасаясь на лету к своей груди, губам, паху и бокам. Внезапно, должно быть, от усталости, он показался мне зверем, вставшим на задние лапы и перебирающим невидимую пряжу. Затем, вновь приняв чёткий человеческий облик, он открыл дверь и легко растворился в царившей снаружи ночи, где море было уже немного светлее неба.
Память об этом человеке мне дорога. Я никогда не испытывала недостатка в добрых друзьях, но реже в моей жизни встречались друзья, которые не были добрыми, те, что из-за чувственности, как бы витавшей в воздухе между ними и мной, казались немного враждебными, поначалу блестящими, а затем потухшими… Мне нравилось, что Дамьен прикован к своему заблуждению, как мы именуем веру, которую не исповедуем. Кроме того, он соответствует моему неизменному пристрастию к таинственной пустоте, к некоторым избранным существам с их постоянной так называемой парадоксальной уравновешенностью, в особенности пристрастию к разнообразию и незыблемости их чувственного кодекса чести. Не просто кодекса чести, а поэзии, как у Дамьена, который вносил лиризм в слова «дайте им умереть», а также лирически покидал – «я был просто обязан» – своих возлюбленных. Я не хотела приводить его в изумление, указав, что в словах «я был просто обязан» коренится его простодушие и что, намереваясь быть расчётливым, он ведёт себя как поэт и фаталист. Его неблагодарное горячо любимое дело загоняло его в тупик, и я могла бы немало о нём узнать от него самого, если бы он, противясь осмысленной схватке, не прибегал к шарлатанству хищников, наставляющих своих отпрысков: «Смотрите: вот так я прыгаю, и так же должны прыгать вы». – «Почему?» – «Потому что так следует прыгать».
Я блуждаю в тени этого воспоминания. Если Дамьен ещё жив, ему за семьдесят. Пришла ли пора его избавления? Чего он стоит, добившись освобождения? Если он прочтёт эти строки и эту книгу, которой я пытаюсь внести свой личный вклад в сокровищницу познания чувств, он улыбнётся улыбкой невозмутимого ничтожного господина и пожмёт плечами. Если он женился на склоне лет на какой-нибудь славной особе, то он скрывает от неё свою былую сущность Дамьена: в ней – его последнее утешение и предсмертная тень. Какой другой конец приличествует Дамьену, как не преждевременная кончина? Однако преждевременная смерть не грозит человеку, давшему подобный обет завоевателя, одинокого и бесплодного беглеца; он давно созрел для смерти.
Он воплощал тип человека, которого другие мужчины единодушно называют «субъектом, не представляющим ни малейшего интереса». Я видела, как, сталкиваясь с обычными мужчинами, он мгновенно терялся, ощущая неловкость от их соседства. Если они рассказывали в его присутствии «бабские сплетни», он лишь подавал с места реплики. Однако вокруг него распространялось некое поле, столь же неуловимое, как запах духов, которое мало-помалу воспринимали присутствующие мужчины, и оно внушало им неприязнь. Они объясняли свои чувства как могли. «Чем он занимается, этот тип? – спросил меня один из них. – Я не могу его раскусить. Готов поспорить, что он педераст». Я позабавилась тем, что этот мнительный человек так наивно выдал свою собственную очевидную двойственность: он весь вспотел от волнения, был напряжён, как недотрога перед сильным соблазном, и бросал на подозреваемого презрительные взгляды, которые я подметила у одной из любовниц Дамьена, прежде чем она отдалась ему. Поначалу она тоже именовала его «субъектом». Когда она сидела рядом с ним, а затем вставала, она хлопала по своей юбке, точно стряхивая крошки, и меня поражал этот жест, смахивающий на болезненный тик.
– Оставьте её в покое, – сказала я Дамьену.
– Я ничего ей не говорю, – ответил он. Действительно, он всего лишь держался подле неё и говорил ей довольно банальные слова. Она же неизменно нервно вскакивала и не таясь направлялась к выходу, будь то терраса казино, окно гостиной или дверь, ведущая в сад… Он был вполне доволен и тоже поднимался с места. Вернувшись, она принималась искать Дамьена вслепую; иными словами, я видела, как раздуваются, втягивая воздух, крылья её безупречного маленького носика и как она двигает пустые стулья быстрыми резкими движениями. Она-то и навела меня на мысль, что все мы, находясь возле этого человека, дышали некоей сладостной отрадой, которую я, несомненно, ласкательно приписываю обонянию – самому благородному из наших органов чувств.

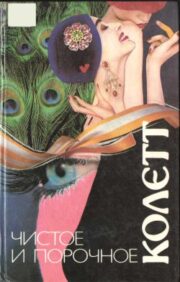
"Чистое и порочное" отзывы
Отзывы читателей о книге "Чистое и порочное". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Чистое и порочное" друзьям в соцсетях.