Альфонсина, стоявшая в первом ряду, зарыдала, воздев руки. Следом за нею и Клемента умоляюще потянулась к Изабелле.
«Все мы порочны!» — грянуло из-за их спин.
«Порочны… Порочны!» — в исступленном восторге повторяли сестры.
«Отравлены скверной!»
«Да, да, скверной!»
Свечи, ладан, тяжелый аромат паники и возбуждения. Кишащий тенями мрак. От сквозняка дверь хлопнула о стену, свечи затрепетали. Пляшущие тени стали двоиться, троиться, вот их три сотни, потом три тысячи — несметная армия ада. Кто-то закричал. Мать Изабелла так завела сестер, что одинокий крик тотчас подхватили; многоголосым эхом он разнесся по всей часовне.
— Вон оно, глядите! Оно здесь, здесь, глядите!
Все обернулись на крик. Чуть поодаль от остальных с воздетыми к потолку руками стояла сестра Маргарита. Она сбросила вимпл и запрокинула голову, словно показывая, что творит с ее лицом тик. Левая нога дрожала так, что и под грубой тканью рясы не скрыть. Казалось, та дрожь подчинила себе каждый мускул, каждый нерв Маргаритиного тела.
— Сестра Маргарита! — без тени волнения позвал Лемерль. — Сестра Маргарита, что с тобой?
Истощенная Маргарита с трудом остановила на нем взгляд, открыла рот, но не издала ни звука. Ее левая нога задрожала еще сильнее.
— Не трогай меня! — крикнула она сестре Виржини, которая бросилась ей на подмогу.
— Сестра Маргарита! — Сей раз в голосе Лемерля звенела тревога. — Если можешь, подойди ко мне.
Маргарите явно хотелось подойти, да ноги не слушались. Подобное я видела в гасконском Монтобане: сразу несколько местных жителей мучились виттовой пляской. Однако тут дело было в другом. Маргаритина нога дергалась точно по воле злого кукольника, а лицо безостановочно кривилось.
— Она притворяется! — процедила Альфонсина.
Маргарита обратила к ней перекошенное лицо, а тело ее застыло в неестественной позе.
— Помогите! — пролепетала она.
Изабелла молча следила за страшным спектаклем и лишь сейчас подала голос.
— Теперь видите? — глухо осведомилась мать настоятельница. — Она одержима, в нее вселился злой дух.
Лемерль не ответил, но вид у него был очень довольный.
«Одержима! Одержима!» — зароптали сестры. Слово, которое долго носили за пазухой, теперь напоминало назойливую муху.
Лишь Альфонсина недоверчиво поджала губы.
— Пустая суета, — пробурчала она. — Это тик или паралич. Вы что, Маргариту не знаете?
Про себя я с ней согласилась. Волнующих событий в последнее время хватает, как тут голову не потерять, особенно чувствительной Маргарите? Тем паче Альфонсина все сильнее харкает кровью и затмевает ее.
Зато Изабелле сомнения не понравились.
— Подобные случаи давно известны! — разозлилась она. — Кто ты такая, чтобы спорить? Или ты больше всех знаешь?
Альфонсина, явно не ожидавшая такой отповеди, закашлялась. Я отчетливо слышала, как она надрывает горло, выжимая из себя хрипы. Будь Альфонсина благоразумнее, пила бы микстуры, которые я ей приготовила, и обмотала бы шею шарфом. Увы, мои советы и снадобья Альфонсину не излечат, а лишь замедлят развитие недуга. От чахотки сиропом не спастись.
Маргарите легче не становилось. Дрожь охватила ее правую ногу — теперь обе ноги танцевали пугающий танец. Маргарита взирала на ноги с ужасом: казалось, они существуют отдельно от тела, раскачивая его из стороны в сторону. «О-дер-жи-ма!» — все громче и явственнее разносилось по часовне.
Изабелла повернулась к Лемерлю.
— Что скажете?
— Пока ничего определенного.
— Как вы можете сомневаться?
Черный Дрозд смерил ее недовольным взглядом.
— Дитя мое, я могу сомневаться, потому что в отличие от тебя кое-что в жизни повидал, — начал он звенящим от раздражения голосом, — и знаю, как легко принять скоропалительное, а то и откровенно неразумное решение.
Изабелла посмотрела на него с вызовом, но тотчас потупилась.
— Простите, отец мой, — сквозь зубы процедила она. — Что прикажете делать?
Лемерль задумался.
— Ее нужно осмотреть, — наконец изрек он, точно приняв нелегкое решение. — Немедля!
32. 4 августа 1610
Лишь я могла оценить мастерство, с которым Черный Дрозд разыграл ночной спектакль. Лемерль якобы отошел в сторону, посреди всеобщего смятения, им самим спровоцированного, избрал сдержанность, поэтому со стороны казалось, будто последнее слово не за ним, а за сестрами. Маргариту поместили в лазарет, где она провела остаток ночи и следующий день вместе с Лемерлем и сестрой Виржини. Говорили, что тик терзал несчастную еще час после прерванной службы. По совету Виржини Маргарите дважды пускали кровь, после чего она стала чересчур слаба для осмотра, и ее уложили в постель.
Сплетни я слушала, морщась от раздражения. Сестра Виржини — глупая девчонка и, надо же, в лазарете хозяйничает! Маргарите, ослабленной постом и нервным истощением, кровопускание противопоказано. Ей нужны покой и хорошая еда — мясо, хлеб, немного красного вина — как раз то, что запретила мать Изабелла. «Красная телесная жидкость для демонов что мед для мух», — твердит сестра Виржини и, дабы отвадить их, разжижает кровь. Если бы не кресты на наших рясах, красный вообще запретили бы. Мать Изабелла косо смотрит на любую, чьи щеки, в отличие от ее собственных, цветут румянцем. Красный — цвет дьявола, опасный, бесстыдный, вызывающий. Впервые за пять лет я рада, что ношу вимпл. Надеюсь, Изабелла не помнит цвет моих волос.
На мрачной жаре домыслы и подозрения множатся, как кролики в садке. Я помню наговоры, чтобы вызвать дождь, но использовать не решаюсь: косые взгляды Томазины и прочих тоже помню. Лишнее внимание к себе привлекать незачем, поэтому вечером я одна села у ног новой Марии и, поставив свечку за Жермену и Розамунду, собралась с мыслями.
Кш-ш, прочь, прочь! Только Шестерку мечей так легко не прогонишь. Нависла она над главою моей и требует жертв. Через скамью взглянула я туда, где накануне у Маргариты случился приступ, и в душе моей дурное предчувствие схлестнулось с любопытством. Неужели этого и добивался Лемерль? Неужели давешний спектакль входил в его план?
Я попробовала прочесть короткую молитву — иные скажут, ересь, но прежняя святая поняла бы, новая же внимала в мрачной тишине, не показывая, что услышала меня. Новой Марии подавай высокую латынь, мои безграмотные молитвы ей неинтересны. Я опять вспомнила Леборна, заодно Жермену с Розамундой и вдруг поняла желание осквернить беломраморную святую, низвергнуть, хоть немного уподобить нам…
Приглядевшись, я выяснила, что Мария не белоснежная, как мне сперва почудилось. По краю ее мантии тянулась тонкая золотая полоска, ею же очертили нимб. Высеченная из дорогого мрамора с нежно-розовыми прожилками, Мария стояла на пьедестале из того же материала. На пьедестале вырезали и вызолотили имя Марии и название нашего монастыря, а под надписью был герб, в котором я быстро узнала герб семьи Арно. Еще один герб, поменьше первого, скромно притаился в самом низу. Белую голубку и лилию Богоматери на золотом фоне я уже видала, только где?
Дар дядюшки, сказала Изабелла, ее любимого дядюшки, во славу щедрости которого мы сорок раз отслужили мессу. Откуда же мне знать этот герб? И почему чувствую, что я на пороге открытия, способного пролить свет на случившееся в последние недели? Еще удивительнее были обрывки воспоминаний, сопровождавшие то чувство: запах пота и воска, яркий свет, жара, головокружение, шум и крики — Королевский театр и тот удачный год в Париже…
Париж! Из обрывков воспоминаний тотчас сложилось целое — я увидела высокого мужчину, исхудавшего от светских ограничений. Его голос я слышала лишь раз, но хорошо помню гневные слова, сказанные в ночь, когда мы показывали «Балет нищих», а он вышел из зала, точно не слыша грома аплодисментов: «Долго Черные Дрозды не поют. Лишь слуги прельстятся добычей такою, но если птичья трель докучает…»
Мой Черный Дрозд — странная птица, совести лишен начисто, а гордость льется через край; мошенник мошенником, но до чего надменный! Все ему игра, почти ничто не свято. А вот месть не чужда. Так же, как и мне. Я ведь избрала иной путь лишь потому, что в моем сердце ныне главенствует Флер и о мелочах думать недосуг. У Лемерля нет Флер и сердца, по-моему, тоже. У него лишь гордыня.
Я тихо вернулась в дортуар: туман в голове рассеялся наконец-то! Я поняла, зачем Лемерль явился в монастырь, зачем представляется отцом Сен-Аманом, зачем велел мне бросить в колодец таблетки, зачем спровоцировал спектакль в часовне и зачем так старается удержать меня на месте. Но понять зачем недостаточно. Теперь нужно разобраться, что он затеял. А еще какова моя роль в этом новом балете-травести. И что ждать в финале — фарс или трагедию.
33. 5 августа 1610
Браво, Эйле! Я знал, рано или поздно ты сложишь факты воедино. Что, помнишь епископа? У монсеньора дурной вкус, не понравился ему «Балет-травести». Настолько, что он велел изгнать меня из Парижа. С позором изгнать.
Мой «Балет нищих» и дамы в блестках возмутили его, а «Балет-травести», обезьянка в епископской сутане, высший свет в корсетах и нижних юбках — еще пуще. Я ведь этого и добивался. Какое право он имел меня судить? Кому мы навредили? Ну, оскорбились некоторые, большей частью надутые ханжи да лицемеры. Зато какие овации гремели! Казалось, им не будет конца! Добрых пять минут мы стояли в свете рампы и улыбались, не думая о поплывшем гриме. Сцена сверкала от монет. А ты, моя Эйле, еще юная и бескрылая, но очаровательная в неприличных панталончиках, красовалась там со шляпой в руке, а глаза твои сияли как звезды. То был величайший наш триумф, помнишь?

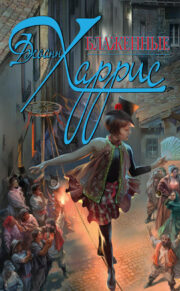
"Блаженные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Блаженные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные" друзьям в соцсетях.