Бедную девочку никто не предупредил! Мне повезло больше, моя мать ханжеством не отличалась. Она объяснила, что кровь эта не грязная и не проклятая. Напротив, это Божий дар. Жанетта научила меня подкладывать тряпицу и поведала еще больше. «Это мудрая кровь, — таинственно шептала она, — магическая». Она ловко раскладывала новые карты Таро, которые Джордано привез из Италии. В жизни не видала таких пронзительных черных глаз, даром что Жанетта мучилась от катаракты. «Видишь карту? Это Луна. Джордано твердит, что ей подчинены приливы и отливы: больше луна — больше воды. У женщин так же: сухо в убывающую луну, а растущая наполняет нас кровью. Боль утихнет. Чтобы получить Божий дар, нужно немного потерпеть. Это и есть магический камень, о котором мечтает наш Философ. Настоящий источник вечной молодости».
С Изабеллой о таком говорить нельзя, но я объяснила ей все, как могла. Рыдания понемногу стихли, в безвольное тело вернулось напряжение, и, наконец, она отстранилась.
— Жаль, мать тебя не предупредила, — терпеливо говорила я. — Тогда бы ты не испугалась. Ничего постыдного тут нет. Каждая девочка взрослеет и становится женщиной. С каждой такое бывает.
Изабелла быстро приходила в себя. Бледное личико скривилось от гнева и отвращения.
— Стыдиться тут нечего, — втолковывала я, надеясь помочь. — Дьявол тут ни при чем. — Я попыталась улыбнуться, но встретила обвиняющий, злобный взгляд. — Кровь и боль приходят раз в месяц, на несколько дней. Тряпицу сворачивай вот так… — Я скрутила свой воротник, только Изабелла уже не слушала.
— Лгунья! — Она отпрянула от меня и пнула мой кувшин так, что он пролетел через хлипкий забор и упал в колодец. — Ты лгунья!
Я попробовала возразить, но Изабелла бросилась на меня с кулаками.
— Неправда! Неправда! Неправда!
Тут я поняла, что совершила смертный грех. Я видела мать настоятельницу беззащитной. Пожалела ее. Мало того, я узнала ее тайну, которую она считала такой постыдной, что стирала окровавленные тряпки ночью…
Приговор этот я прочла во взгляде, которым Изабелла обожгла меня напоследок.
— Ты лгунья! Мерзкая ведьма! Да, ведьма! Я докажу, что ты дьяволу продалась!
— Изабелла… — позвала было я.
— Не буду слушать! Не желаю! — вопила Изабелла, но даже тогда я жалела ее, такую юную, ранимую, одинокую… — Не желаю слушать! Ты с первой минуты меня возненавидела! Смотришь надменно, сравниваешь… — Она всхлипнула. — Меня не обманешь! Я знаю, что ты задумала, и не позволю тебе… Не позволю! — выкрикнула Изабелла и умчалась прочь.
Часть III. Изабелла
29. 1 августа 1610
Три дня я прожила в ежесекундном ожидании кошмара. После встречи у колодца мать Изабелла со мной почти не заговаривает и случившееся не вспоминает, но ее неприязнь и недоверие ощущаются. Страшные обвинения и угрозы она не повторяла ни при сестрах, ни наедине. Более того, теперь она проявляет ко мне терпимость, которую я прежде не чувствовала.
Вид у Изабеллы нездоровый: лицо в воспаленных прыщах, под глазами мешки. Лемерль уже дважды вызывал меня в сторожку, намекал на поблажки, которые мог бы мне сделать, но я боюсь спрашивать, что он потребует взамен. Призрак, напугавший Маргариту, уже появлялся в других частях монастыря. С каждым разом его описывают все подробнее, теперь это красноглазая монахиня-чудище, иными словами, типичная героиня баек и небылиц.
Альфонсина, конечно, тоже видела призрачную монахиню и рассмотрела ее куда лучше. Неужели то видение не что иное, как результат ее соперничества с Маргаритой? Альфонсина с каждым днем бледнее и беспокойнее, она клянется, что под жутким чепцом узнала лицо матери Марии, прежде доброе, а ныне злобно перекошенное. Боюсь, Маргарита со дня на день сочинит нечто еще страшнее и опять затмит Альфонсину. Пока же Маргарита отдает каждую свободную минуту молитвам и наведению чистоты, а ее соперница постится, молится и кашляет все чаще.
Что с нами творится? Разговоры теперь сплошь о крови и видениях. Сестринского духа как не бывало. Наказания выходят за пределы разумного. Так, сестра Мари-Мадлен заработала двойное всенощное бдение за то, что усомнилась в байке послушницы. Питаемся мы черным хлебом да пустым супом, ибо мать Изабелла нарекла тяжелую пищу первоисточником низменных желаний. Говорила она с таким пылом, что шуточки, которые подобное заявление вызвало бы при матери Марии, застряли в горле.
Теперь не еда нас подпитывает, а злословие и сплетни. Первая докладчица-изобличительница у нас Клемента. Стоит Антуане съесть хлеб до окончания молитвы, Клемента запоминает и докладывает на капитуле. Стоит Томазине задремать на вигилии, стоит Пьете рявкнуть на мешающую молиться, стоит Жермене посмеяться над видениями… Последнее особенно жестоко: сказанное по секрету разглашается с самодовольной улыбкой. Мать Изабелла хвалит Клементу за совестливость, а Лемерль словно ничего не замечает.
Жермена приняла наказание с холодным равнодушием. Лицо у нее сейчас суровое и непроницаемое, как у статуи Марии Морской, которой «среди святых нет и не было». Только в монастыре, беззащитном пред порывистыми западными ветрами, легче верить в Морскую Владычицу, недремлющую, грозную, с пустыми каменными глазницами. Нам, обитательницам этого монастыря, она ближе и понятнее Богоматери, Девы, именующей себя матерью всего сущего.
Три дня назад на телеге с материка нам привезли изящную мраморную статую, замену низвергнутой. Мать Изабелла объявила, что это от ее любимого дядюшки, во славу щедрости которого мы отслужим мессу сорок раз. Новая Мария бела, гладка и безлика, как очищенная картофелина. Она восседает у часовни, на месте своей базальтовой предшественницы, бессмысленно улыбается и словно нехотя благословляет входящих.
В первую же ночь новую Марию осквернили: восковым карандашом написали на ее лице непристойности. Жермена, отбывавшая той ночью епитимью, твердила, что видеть ничего не видела. «Небось призрачная монахиня накуролесила, — дерзко сказала она, — или мартышка из восточной страны, ну, или Святой Дух проявился». Жермена криво ухмылялась, потом ее разобрал смех, а мы наблюдали за ней, потрясенные и встревоженные. На бледных щеках Жермены вспыхнул лихорадочный румянец, она умоляюще взглянула на Клементу, хватаясь руками за воздух, и навзничь упала на каменные плиты.
Так Жермена угодила в лазарет. «Дизентерия», — определила сестра Виржини, во всеуслышание пообещала, что Жермена поправится, а сама тайком качает головой и шепчет, мол, бедняге и месяц не протянуть.
Еще я тревожусь за Розамунду. За последнюю неделю она сильно сдала — из лазарета не выходит, почти не встает и отказывается есть. Да, Розамунда очень стара, почти как покойная мать Мария, но, пока не трогали нашу святую, она казалась бодрой, крепкой если не умом, то телом, и с завидной непосредственностью наслаждалась доступными ей радостями.
Почему-то я чувствую себя виноватой. Я вступилась бы за Розамунду, да знаю, что ничего не добьюсь. Пожалуй, сейчас чем меньше я вмешиваюсь, тем вероятнее, что мать Изабелла смилостивится над бедной старухой.
Разумеется, все это козни Лемерля. Чем дольше я живу в монастыре, тем отчаяннее мое положение. Именно этого и хотел Лемерль. Он насмехается над моей преданностью сестрам, но понимает, что я их не брошу, пока Флер беда не грозит. Теперь я сама себе тюремщица: нужно бежать, но страшно подумать, что без меня здесь случится. Каждый вечер раскидываю карты, но выпадает все как прежде — горящая Башня, с которой, воздев руки, падает женщина; Отшельник в мантии с капюшоном, страшная Шестерка мечей. Нам грозит беда, говорят карты, катастрофа, пред которой я совершенно бессильна.
30. 1 августа 1610
Пришел ответ на мои письма, наконец-то. Монсеньор явно не спешит, не видит особых причин благодарить меня за мой тяжкий труд. Понятно, посвятить жизнь служению благородным Арно — само по себе честь. Впрочем, щедрый дар, мраморная статуя, которую прислали с письмом, красноречиво свидетельствует о его одобрении. Монсеньор весьма доволен известием об обновлениях, которые затеяла его племянница. Еще бы! Уж как я расписал юную настоятельницу — божественная невинность, неземная красота, обожание сестер, птички, слетающиеся на ее глас. А что за чудеса творятся в монастыре — и розовые лепестки дождем, и невероятные исцеления. Сестра Альфонсина возрадовалась бы, прослышав об исчезновении своего мучительного недуга, а бедная сестра Розамунда — о том, что вновь действует ее отнявшаяся рука. Бахвалиться чудесными исцелениями не след, надо надеяться, что с Божьей помощью…
Наживка заброшена, почти не сомневаюсь, что рыбка клюнет. Я уже и дату удобную предложил — пятнадцатое августа. Это день Успения и Вознесения Святой Девы Марии, вот и отпразднуем возрождение нашего монастыря.
Чтобы успеть, мне придется работать денно и нощно. К счастью, у меня есть помощницы — Антуана, нетребовательная и выносливая, как вол; Альфонсина, моя провидица и распространительница слухов; Маргарита, живой проводник моих идей, не говоря уже о Пьете, моей посыльной, моей маленькой сестре Анне и Клементе.
С последней я, видно, просчитался. Внешне кроткая, она требовательнее любой другой помощницы, а до чего переменчива! Сегодня мурлычет, как котенок, завтра холодна как лед и с явным удовольствием провоцирует меня на рукоприкладство, чтобы потом утопить в потоке покаяния и любовных клятв. Наверное, такие крайности должны мне нравиться. Хотя любителей впрямь найдется немало. Увы, я уже не семнадцатилетний отрок, чтобы потерять голову от смазливой жеманницы. Да и времени на нее жаль: забот и обязанностей у меня сейчас не меньше, чем у сестер. Ночи мои для тайных дел, а дни для благословений, изгнания нечисти, публичных покаяний и прочей клоунады.

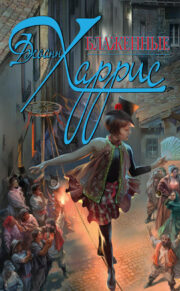
"Блаженные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Блаженные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные" друзьям в соцсетях.