Изабель смирилась со своей участью. Она подошла к постели в назначенный момент. Под спину Вильгельму подложили валики и подушки. Покрывало было черным, с аккуратно обшитыми краями. На Маршале была рубашка из небеленого льна, цвета грязного снега — того же оттенка, что и кожа, обтянувшая его кости.
Изабель наклонилась, чтобы в последний раз поцеловать его, и обрадовалась, что три дня назад они смогли побыть наедине, иначе она не вынесла бы этого поцелуя, сухого, как корка хлеба.
— Мой прекрасный друг, — прошептал он, погладив ее лицо.
Она была готова к его объятью, но не к тому, что он скажет, и не ожидала, что он произнесет эти слова с такой горькой нежностью. Возведенные ею внутренние крепостные стены не выдержали удара и рухнули. Она поклялась, что не станет плакать, но глаза наполнились слезами. Она чувствовала, как Махельт обнимает ее и тихонько отталкивает от кровати. Дочка тоже всхлипывала.
Духовник Вильгельма, тоже, разумеется, храмовник, подошел к постели и угрюмо положил на нее саван. Зажав рот рукой, Изабель бросилась прочь, в свою комнату. Сев на свою одинокую постель, она задернула полог и, оказавшись в призрачном уединении, дала волю горю, раздиравшему ее сердце.
— Мама? Мама, ты не спишь?
Изабель подняла голову. На щеке отпечатались складки подушки. В голове стучало, глаза опухли и болели. Махельт, с таким же опухшим лицом и покрасневшими глазами, раздвинула занавеси полога и с беспокойством смотрела на нее.
— Да, — хрипло проговорила Изабель и села. Сквозь раздвинутый полог она видела, как одна из ее женщин зажигает свечи. До слуха Изабель донесся стук закрываемых ставен. — Который час?
— Скоро будет последняя служба. Я раз или два к тебе заходила, но ты спала, и я не хотела тебя беспокоить. Слуги принесли тебе еду… — она обвела рукой комнату.
— Я не голодна, — ответила Изабель. До нее донесся аппетитный аромат. Что-то с тмином и свежий хлеб. Рот наполнился слюной, и она испугалась, что ее стошнит.
— Ты должна попытаться что-то съесть. Нужно оставаться сильной, — резонно заметила Махельт. Изабель посмотрела на свою дочь. Она была высокой и крепкой. Вся в Вильгельма с его длинными костями и темными, как река зимой, глазами.
— Зачем? — спросила она.
— Ради нас… ради Ансельма и Иоанны, ради графства. Я знаю, что мой брат со всем справится, но сердцем графства все равно остаешься ты, мама, — ее голос почти сломался.
Изабель фыркнула.
— Ты заставишь меня снова заплакать, — предупредила она, встав на ноги. Все тело болело, как будто за последние несколько часов она состарилась лет на сорок.
Махельт взяла ее за руку.
— Пойдем. Хотя бы попытайся поесть. Это придаст тебе сил. Я тоже не голодна, но я принимаю и помощь, и пищу.
Изабель сомневалась, что ей что-нибудь может придать сил, но позволила Махельт подвести себя к столу. Он был застелен чистой белой скатертью и сервирован лучшими серебряными блюдами и кубками из зеленого стекла. В центре стола стояли две дымящихся супницы с курицей и жарким с тмином и корзинки со свежим хлебом. Вокруг стола были расставлены обложенные подушками скамьи, а стул Изабель был поставлен во главе стола.
Все это было очень обычно и буднично, но в то же время горестно, и Изабель почувствовала, что тоска заливает ее душу, как капля чернил окрашивает воду. Отец Вальтер пришел, чтобы благословить трапезу, и сообщил ей, что храмовники ужинают в гостевых покоях, а Вилли, рыцарь Генрих Фицгеральд и Жан Дэрли находятся рядом с Вильгельмом. Он спит.
Изабель опустила свою ложку в жаркое и помешала его, гадая, сможет ли она хоть что-нибудь проглотить. Она бросила взгляд в сторону дочерей и поняла, что они думают о том же. Даже Махельт, так рьяно подбадривавшая ее, с энтузиазмом отламывала хлеб, но почти ничего не брала в рот.
Собрав волю в кулак, Изабель попробовала еду. Она была теплой, пряной и острой, вкусной, но Изабель не почувствовала бы разницы, даже если бы жевала опилки. Она заставляла себя жевать и глотать, брать хлеб, обмакивать его в соус. Есть.
Она заставила себя проглотить третью ложку, запив ее вином, когда сообщили, что пришел Жан Дэрли. Он запыхался.
Изабель взглянула на него и вскочила, опрокинув стул. Ее охватил ужас.
— Вильгельм! — вскрикнула она.
Жан кинулся вперед, успокаивающе взмахнув рукой.
— Нет, нет, миледи, это не то, о чем вы подумали, простите, что напугал вас.
— Тогда в чем же дело? — она прижала руки к груди и почувствовала, что сердце у нее колотится, как взбесившийся барабан.
— Миледи, граф проснулся, и он в хорошем расположении духа. Он просил позвать дочерей, потому что хочет, чтобы они спели для него, — Жан поднял упавший стул и усадил ее обратно, поддерживая под руку.
— Спели! — Изабель посмотрела на него, решив, что ослышалась. — Он хочет, чтобы они пели?
Возможно, Вильгельм выпил слишком много макового сиропа и теперь бредил.
Гримаса Жана мало напоминала его обычную радостную улыбку.
— Мы с Генрихом сидели рядом с ним, и он сказал, что это, наверное, странно, но ему хочется петь. Не знаю, может быть, это потому, что, устроив свои дела, приведя их в порядок, он испытал облегчение. Я сказал ему, что тогда надо петь, что, возможно, это порадует его сердце и придаст ему сил, но он велел мне замолчать, потому что все решат, что он сошел с ума. Тогда Генрих сказал, что, если его дочери придут и споют для него, это будет больше соответствовать случаю. Поэтому я вызвался их привести.
Изабель замахала на девушек, смотревших на них круглыми глазами.
— Чего вы ждете? Ваш отец зовет вас. Идите!
Они вышли из-за стола, удивленные и немного напуганные. Махельт поторапливала их, держа Иоанну за руку.
Жан присел на скамью рядом с Изабель.
— Простите меня, я не хотел вас пугать. Граф очень слаб, но все еще в здравом уме.
Изабель отодвинула еду в сторону, у нее пропал всякий аппетит. Жан накрыл ее правую руку своей ладонью.
— Очень тяжело, — сказала она. — Он уходит, а я все еще цепляюсь за него, все еще надеюсь. Но это из эгоизма. Я по себе горюю, я не думаю о нем.
— Он был мне вместо отца, потому что своего родного отца я почти не знал, — пробормотал Жан. — А еще он был мне наставником и другом. В моей душе появится огромная дыра, когда его не станет. Но если бы я не знал его, мне было бы во много раз хуже.
— Ах, Жан, — произнесла она, тронутая его словами. — Ты понимаешь.
— Да, — он сжал ее пальцы, а потом поднялся и вышел из комнаты.
Изабель сидела какое-то время, прижав ладонь к губам, отчетливо ощущая холодную гладкость своего золотого обручального кольца. Потом она поднялась из-за стола и, велев своим женщинам остаться, направилась в покои Вильгельма.
Генрих Фицгеральд сидел за дверью и играл в шахматы со своим оруженосцем. Увидев ее, оба вскочили на ноги, но она жестом велела им сесть и тихо проскользнула в слегка приоткрытую дверь.
Махельт стояла возле постели. Ее сестры выстроились за ее спиной. Она пела чистым, красивым голосом, без малейших признаков дрожи. Это была песня, которой Вильгельм научил ее, когда она была еще малышкой и играла у него на коленях. Звук голоса дочери заставил волосы на затылке Изабель встать дыбом. Ее охватила такая волна чувств, что она даже не могла в них разобраться, знала только, что ей снова хочется плакать. Глаза Вильгельма блестели, он улыбался, слушая пение дочери. Изабель тихонько села на скамью в стороне, сложив руки на коленях. Девочки пели по очереди, и, хотя у Махельт оказался самый красивый голос, они все старались, как могли, чтобы порадовать его. Иоанна застеснялась, и Вильгельм помог ей, начав петь первым. У Изабель перехватило дыхание, потому что, несмотря на немощность и страдания Вильгельма, его голос оставался глубоким и чистым. Однако пение утомило его. Увидев, что краска отливает от его лица, Изабель встала и выгнала девочек из комнаты. Махельт теперь горько плакала, но Изабель предоставила ее младшим сестрам позаботиться о ней, а сама быстро вернулась к Вильгельму.
Его глаза были закрыты, но, когда подол ее платья прошуршал по направлению к кровати, он открыл их и устало улыбнулся ей.
— Какую песню мне тебе спеть? — неровным голосом спросила она.
— Песню песней, — ответил он. — «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь…» Я устал от пения. Просто посиди со мной немного.
Он протянул ей руку.
— Разве твои новые обеты позволяют женщине сидеть у тебя на постели? — спросила она, умудрившись не дать обиде прозвучать в ее голосе.
Он продолжал улыбаться.
— Позволяют, если она не залезает ко мне под одеяло и не пытается меня соблазнить, — сказал он. — Мы должны держать свои порывы в узде.
Она рассмеялась, сама себе удивившись, и села на покрывало, взяв его за руку.
— Наши дочери… — проговорил он, немного передохнув, — в них столько же силы и красоты духа, сколько в наших сыновьях, и я рад видеть их всех вместе. Убедись, что Вилли найдет достойного мужа для Иоанны, когда придет время.
Изабель пробормотала что-то неразборчивое.
Он грустно улыбнулся:
— И что она будет продолжать петь.
— Каждый день.
Он закрыл глаза, и ей показалось, что он заснул, но он просто собирался с силами.
— Прошлой ночью я видел двух мужчин, одетых в белое, стоявших по обе стороны от моей постели. И я знал, что не сплю, несмотря на то что мой сын и другие сидели тут же, рядом, и ничего не видели, — он вздохнул. — Осталось недолго.
Вторник после посвящения выдался ясным и свежим. Деревья покрылись бледно-зелеными листочками, наливаясь жизнью, соками, а птицы принялись выводить свои трели чуть ли не с рассветом. Изабель с Ансельмом, Иоанной и своими внуками спустилась к реке, чтобы покормить лебедей и их птенцов. Птицы свили гнезда у противоположного берега реки, как они делали на ее памяти каждый год. Ей нравилось думать, что это одна и та же пара, но она понимала, что фантазирует. У епископа Хью Авалонского был домашний лебедь, который прожил тридцать лет, но те, что живут в дикой природе, не могут похвастаться таким долголетием.

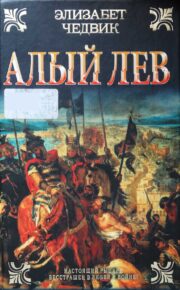
"Алый лев" отзывы
Отзывы читателей о книге "Алый лев". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Алый лев" друзьям в соцсетях.