— Я купил это в Иерусалиме более тридцати лет назад, — рассказал он членам семьи и рыцарям, собравшимся у его постели. — Она — символ обета, который я принес Господу: что я сделаю все возможное, чтобы быть достойным Его. Я поклялся, что мое тело после моей смерти будет передано Ордену храмовников. Я до сих пор помню, как жару, мух, пыль у себя на зубах… и данную мной клятву. Я старался выполнять ее, хотя у меня и не всегда получалось.
Он молчал некоторое время, глядя на ткань. Изабель подумала было, что он устал, но цвет его лица был по-прежнему хорошим, без серо-восковых теней под глазами, которых она так боялась.
— Жан, — тихо произнес он после долгой паузы, — во имя твоей любви ко мне и твоей преданности мне я передаю это тебе на хранение. Укрой меня этой тканью, когда я умру, и гроб, в котором я упокоюсь.
— Да, милорд, — хрипло проговорил Жан.
— Хорошо. Еще я хочу, чтобы ты купил простого серого полотна, качество не имеет значения. Оно понадобится только для того, чтобы защитить шелк от грязи и дождя, если мое последнее путешествие придется на плохую погоду, — он говорил будничным тоном, как будто надиктовывал обычное письмо Вальтеру или Майклу. Его спокойствие в этот момент и то, насколько четкими были его указания, заставили Изабель прикусить губу. Махельт, стоявшая рядом с ней, плакала открыто.
— Будет исполнено, милорд, — сказал Жан дрогнувшим голосом. Его глаза наполнялись слезами.
Вильгельм коротко кивнул:
— После моих похорон отдай серое полотно братьям Ордена, и пусть они поступят с ним, как сочтут нужным.
— Милорд, — голос Жана оборвался, и он начал сворачивать шелк.
Вильгельм какое-то время наблюдал за ним, а затем взглянул на Изабель. Она сжала губы и не отвела взгляда, хотя рыдания душили ее.
— А сейчас, — тихо проговорил он, — я хочу остаться наедине с женой. Мне есть, что ей сказать, и, я думаю, ей тоже.
Собравшиеся покинули комнату. Жан держал шелк в руках очень почтительно и одновременно так, словно ему хотелось бы оказаться от него подальше. За последним человеком закрылась дверь, и Вильгельм с Изабель остались одни.
Она медленно приблизилась к его постели, как будто ей нанесли смертельную рану.
— За все годы нашего брака ты никогда мне об этом не говорил, — произнесла она убитым, полным боли голосом.
Он протянул ей руку, но она ее не взяла.
— Это касалось только меня и Бога, — ответил он нетерпеливо, отчего ей захотелось ударить его, но она тут же устыдилась своей злости. — Ты всегда знала о моих связях с Орденом тамплиеров.
— Да, но не об этом… Такое стоило бы скрывать от остальных, но не от меня.
Он спокойно посмотрел на нее:
— Я разделил с тобой, Изабель, больше, чем с кем бы то ни было другим в своей жизни. Когда мы только поженились, я сказал тебе, что у меня всегда будет то, что я никому не стану открывать, и ты это тогда приняла. Почему же ты не можешь смириться с этим сейчас?
Она покачала головой:
— Я принимаю, но мне жаль, что я этого не знала.
— В таком случае, раз пришло время говорить правду, давай уж говорить ее целиком, — сказал он. — Если я хочу умереть как храмовник, я должен отказаться от всего мирского. Тебе это известно.
Изабель молча кивнула.
— Достань из третьего дорожного сундука плащ.
Изабель прикусила губу: ей хотелось спросить, сколько еще «сюрпризов» припрятано у него в сундуках, разбросанных по всем их замкам. Но она молча выполнила его просьбу. У нее в груди клокотали злость и обида. Изабель думала, что после тридцати лет, проведенных вместе, она знала о Вильгельме все. Теперь выяснялось, что она совсем его не знала, а времени почти не осталось.
Плащ был из тяжелой, искусно сотканной, некрашеной шерсти. Он весил так много, что у нее руки задрожали, когда она его подняла. На левой стороне груди была нашивка из кроваво-красного шелка в виде креста Ордена тамплиеров. Изабель вздохнула и попыталась взять себя в руки, понимая, что, если душевная боль вынудит ее закричать, она уже не сможет остановиться. Дрожа, она вернулась к кровати и положила плащ на постель.
— Когда он у тебя появился? — нетвердым голосом спросила Изабель.
Он ответил, помедлив:
— Перед тем как мы в прошлом мае отправились осматривать наши владения. Для меня это было частью наведения порядка в жизни. Я хотел, чтобы все было подготовлено.
Изабель присела на постель и посмотрела на свои руки.
— Когда мы поехали в Париж, — прерывающимся голосом произнесла она, — помнишь, я надевала при дворе нарядные туфли? В них я посещала приемы короля Филиппа, гуляла и танцевала, пока не сносила их подошвы до дыр. Я тебе тогда не сказала: я хотела их сберечь до своих похорон, но потом передумала. А теперь ты показываешь мне ткань для савана, которую ты хранил тридцать лет, и еще этот плащ… Я не могу.
Она покачала головой. Чувства не давали ей говорить.
Он вздохнул со смирением:
— Я знал, что, если скажу тебе, ты это воспримешь болезненно. Я никогда не делал тайны из того, что собираюсь принести обет Ордену тамплиеров, когда буду умирать. Мне пришло в голову, что стоит заказать этот плащ, пока я еще в добром здравии. Он, как и ткань для савана, являются частью моего приготовления к смерти — для меня это личное. Как бы я хотел, чтобы ты поняла…
— Я понимаю, — хрипло проговорила она, — но мне все равно больно.
Он осторожно провел рукой по плащу.
— Я хотел рассказать тебе об этом сейчас, потому что скоро мне придется сообщить остальным.
Она посмотрела на него, почувствовав, как ее охватывает паника.
— После того как я принесу обеты Ордену храмовников, я больше не смогу обнять тебя. И ты не сможешь ко мне прикоснуться. Это запрещено, — его голос был мягок, но неумолим.
Какая-то часть ее всегда понимала, что этот момент наступит. Однако понимать, мысленно готовиться к чему-то далекому и оказаться с этим лицом к лицу — не одно и то же. Слово «нет» едва не вырвалось наружу.
— Изабель… — он с тревогой смотрел на нее.
Она прикусила губу. Слезы капали с ее ресниц и струились по лицу.
— Ты действительно этого хочешь?
— Да, — ответил он. — Я тридцать лет назад поклялся в том, что принесу обеты тамплиерам, и теперь пришло время исполнить обещание. Ради моей чести и моей души. Это нужно сделать.
Ей хотелось топать ногами и кататься по полу, швырять вещи и зайтись от крика, потому что так не должно было быть. Но она сдержалась. Это был его выбор, и она должна была его принять. Она любила его всю свою взрослую жизнь и ради любви должна была пройти по этому пути до конца.
Она медленно поднялась с постели и, сняв вуаль, распустила косы. Ее волосы все еще были густыми, хотя теперь в них было больше серебряных нитей, чем золотых. Потом она сняла пояс и туфли и забралась в постель рядом с Вильгельмом.
— Я знаю, что тебе больно и что все эти телесные, плотские радости для тебя остаются в прошлом, — проговорила она хрипло, — но я хочу еще раз, последний раз, полежать рядом с тобой как твоя жена. Если ты мне это позволишь, я смогу пройти через все остальное.
Осторожно, потому что каждое движение причиняло ему боль, он подвинулся, чтобы ей было удобнее, и обнял ее за плечи, пропустив руку под ее волосами.
— Изабель, — теперь в его голосе слышалась страдание, — чего бы я не отдал, чтобы повернуть время вспять и снова пережить с тобой эту весну, только как молодожен, здоровый и сильный…
Она погладила его щеку рукой. Он повернулся к ней и поцеловал ее пальцы.
— Я тоже, — сказала она.
Наступила полная тишина, и она подумала, что он заснул. В последние дни Вильгельм много спал, когда боль позволяла. Но он заговорил.
— Помнишь, — сказал он с улыбкой в голосе, — я заказал эту кровать плотнику в Лондоне.
— Да, помню, — пробормотала Изабель. — Она из дуба, выросшего в Хамстеде. Она путешествовала вслед за нами повсюду…
Их брачное ложе, сердце их дома, было местом, где они спали, занимались любовью, разговаривали и ссорились, а потом, со временем, мирились. Десять их детей были зачаты и рождены за пологом этой кровати. Они меняли покрывала, подвязывали занавеси полога наверх, и днем она служила диваном, была свидетелем прихода и ухода слуг и посетителей, слышала скрип перьев писцов по пергаменту, деловитые разговоры рыцарей, сплетни и смех дружеских бесед, тихий шепот интимных разговоров. А теперь она должна была сослужить свою последнюю службу.
— Сколько историй она могла бы рассказать! — проговорил он.
— В таком случае, из соображений приличия, может, и правильно, что кровати не разговаривают.
Он рассмеялся, но его смех прервал внезапный спазм, от которого скрутило тело и перехватило дыхание. Изабель тут же повернулась к нему. Вскочив с постели, она поспешила налить ему в чашу маковой микстуры, выписанной лекарем. Сейчас он не отказался, но выпил ее с выражением какой-то безнадежности на лице.
Когда она забрала у него чашу, он закрыл глаза. Темные тени у него под глазами наполнили ее сердце болью.
— Я никогда не думал, что скажу это, Изабель, но я очень жду конца пути, — сказал он после минутного молчания. — Мне мучительна мысль о том, что я должен буду тебя покинуть, но теперь каждая миля пути для меня — бремя. Я бы предпочел, чтобы все уже кончилось.
Она подошла к постели и снова легла рядом с ним. На это нечего было сказать, а она была готова разрыдаться, поэтому все равно не смогла бы ничего ответить…
Три дня спустя Вильгельм приготовился принести обеты рыцаря Ордена храмовников в присутствии Аймера де Сейнт Мора и других тамплиеров, прибывших, чтобы стать свидетелями этого таинства, из Лондона. В покоях находились также рыцари его войска, Изабель и все их дети, за исключением Ричарда, который оставался во Франции.

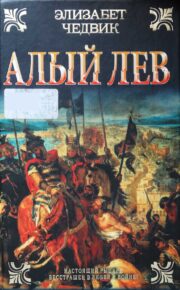
"Алый лев" отзывы
Отзывы читателей о книге "Алый лев". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Алый лев" друзьям в соцсетях.