Взять огромный блестящий металлический предмет Мария-Луиза категорически отказалась. Это сделал за нее Карл и тут же передал члену совета, который вручил его начальнику тюрьмы, а тот в свою очередь передал своему первому помощнику. Помощник, отвесив глубокий поклон, подошел к большой железной двери и начал действовать так, как будто он ее отпирает.
Разумеется, этот ключ был чисто символическим. Его специально изготовили для подобных оказий. В ряде случаев он символизировал собой ключ от городских ворот. Его вручали герцогу, когда тот проезжал через город. Порой его представляли как ключ от сердца горожан и дарили в знак гостеприимства. В любом случае, это был очень красивый золотой ключ.
Для внешних дверей ключа не нужно было вовсе, а ключи от камер использовали час назад. Узники уже были готовы и стояли за дверью, ожидая момента, когда она откроется и они смогут выйти на свободу, которую в свой трехлетний юбилей так милостиво даровала им Мария-Луиза.
Дверь скрипнула и демонстративно распахнулась. Показались заключенные, их было не меньше двух сотен (около шестидесяти из них арестовали прошлой ночью, чтобы милосердный жест герцога и его дочери выглядел более впечатляюще). Медленно выходили они из дверей и заполняли собой пространство перед герцогом. Узники должны были выразить ему свою благодарность. Тоже часть ритуала.
Четверть этого сброда составляли женщины — толстые краснощекие бабы в лохмотьях. Большая часть их сидела за мелкие кражи, несколько отбывали наказание за убийства или за еще более тяжкие преступления, например, такие, как выбрасывание из окон мусора. От этой пагубной привычки отцы города решили отучить всех. Мужчины в своем большинстве были грабители и убийцы, некоторые обвинялись в государственной измене, что было в те годы весьма распространенным преступлением. Все вместе они являли миру неприглядную картину. Окружив довольно плотным кольцом герцога с дочкой, преступники опустились на колени.
Карл сделал знак охране, чтобы не позволяли им близко подползать в нему, ибо благодарность преступников отдавала крепким смрадом тюремного быта. Когда последний из них вышел за дверь, апрельское солнце немедленно скрылось в облаках, как бы желая прикрыться от зловония. И это, кстати, дало возможность узникам чуть-чуть шире раскрыть глаза на свет Божий после долгих дней, недель, а то и лет, проведенных в темных, без окон, казематах.
Когда они все вместе принялись выкрикивать слова благодарности, поднялся невообразимый шум. Особенно старались те, что сидели за государственную измену. Во всю силу своих легких они вопили о преданности до гроба герцогу Орлеанскому. Женщины рыдали и пытались найти в толпе проход, чтобы поцеловать герцогу руку. Мария-Луиза стояла испуганная, готовая в любую минуту расплакаться.
В конце концов, это столпотворение рассеялось, и бывшие узники растворились в толпе горожан, отправившись праздновать свою свободу.
В следующем, 1441 году Карлу VII Французскому пришел конец, что весьма прискорбно. Практически он сам себя уморил голодом, ибо боялся, что его отравит родной сын. Действительно ли Людовик XI что-то предпринимал, чтобы ускорить смерть отца, сказать невозможно, тем более доказать. Но из своего нетерпеливого ожидания отцовской кончины он никогда секрета не делал. Как только напуганный до смерти король отправился в могилу, Людовик XI проворно взобрался на трон, жадно схватил корону и крепко нахлобучил ее себе на голову. Затем извлек на свет тысячу всевозможных планов и немедленно начал претворять их в жизнь.
Коронация Людовика XI представляла собой пышное, феерическое зрелище, затем последовал парад по городам Франции — первый шаг в продуманной и хорошо организованной кампании[15] (сейчас бы сказали, и рекламной кампании по популяризации нового короля). Так началось долгое и неоднозначное правление этого «короля-паука», как его вскоре прозвали, и прозвище закрепилось за ним навсегда.
Карл Орлеанский прибыл в Париж, чтобы присутствовать при въезде своего кузена в город. Король Людовик был ласков и сердечен со своим владетельным родственником, чьи земли он со временем унаследует. Пытливо вгляделся король в лицо престарелого Карла и остался весьма доволен, как бывал доволен, замечая признаки смерти, подкрадывающейся к его отцу. Он был рад тому обстоятельству, что здоровье Карла ухудшается. Значит, все идет хорошо. Значит, можно спокойно отпустить его обратно в Блуа к жене. И король освободил Карла от его обязанностей при дворе, разрешив ему вернуться домой. На прощание Людовик сказал Карлу несколько теплых слов, предполагая, что никогда больше его не увидит. Да и слышать о нем он ничего не хотел, кроме, пожалуй, одного — довольно радостного известия о его кончине.
Но на следующий год, в июне, Карл с благочестивым трепетом смотрел на личико своего новорожденного сына. Голубые глаза Карла затуманили слезы, а горло пересохло от восторга, который был столь велик, что его нельзя было даже выразить.
— Сын мой, Людовик! — шептал он не в силах произнести эти слова вслух.
Он обернулся и посмотрел на постель, где лежала Мария. Он хотел увидеть глаза жены. Вокруг суетилось множество женщин, и она глядела на Карла поверх их голов. А глаза ее не улыбались. Случилось такое чудо, что смеяться тут не пристало.
Это были долгие и трудные роды. Дочь свою она родила пять лет назад, и теперь была уже не столь сильна здоровьем и молода, как прежде. Она корчилась на атласных простынях, стонала сквозь стиснутые зубы, а королевские наблюдатели и все остальные, кто обладал привилегией присутствовать при рождении принца крови, внимательно за ней следили. Она закричала только один раз, когда наконец разродилась младенцем, и это был жуткий крик, крик агонии. Карл, не в силах его слышать, заткнул уши.
Сейчас же, забыв обо всем этом, она тихо лежала на сияющих белизной подушках, а рядом хлопотали повитухи.
Она посмотрела в глаза супруга, и время остановилось.
Это был момент, о котором она мечтала все годы замужества за Карлом. Это был момент, ради которого Мария жила, ради которого родилась на свет. Это был ее день, и день этот был чудесен, никогда и в мечтаниях своих она не осмеливалась его представить. Полностью забыв о своем измученном теле, она единственно была благодарна ему, бесконечно благодарна за то, что оно смогло-таки подарить Карлу его мечту. В течение долгих месяцев беременности, чтобы родить мальчика, она делала все, что только можно себе вообразить. Исполняла сложные и странные ритуалы, морила себя голодом, ела только кислую пищу до тех пор, пока ее рот и горло не высохли и сморщились совершенно. Ничто не было для нее противным, ничто ее не отпугивало. И вот теперь за все свои муки она была вознаграждена восторженным взглядом Карла.
Обряд крещения наконец завершен, будущее младенца августейшей особой определено, и теперь Карл смог снова посмотреть на красное сморщенное личико новорожденного сына и уже в который раз произнести:
— Сын мой, Людовик!
Затем он перевел свой взгляд дальше, туда, где за окнами сиял летний день, на залитые солнцем земли Орлеана, которые теперь не будут потеряны, ибо у него есть сын, он понесет теперь древнейшую фамилию рода герцога Орлеанского.
На те же самые поля и холмы глядел в эту минуту и король Франции, трясясь в большой карете по дороге в Тур.
Кареты — это особый вид пыточного инструмента, ибо большинство дорог страны полгода представляют собой непролазную грязь, а в остальное время — выжженные солнцем колдобины и ухабы. Ни один человек, могущий хоть как-то держаться в седле, не выберет для поездки карету. Но после одного случая король путешествовал в карете. А случилось вот что: в прошлый раз, когда он проезжал по другой орлеанской провинции, откуда-то неожиданно вылетела стрела, пущенная из большого лука (в рост стрелка). К счастью, стрелок этот промахнулся, он убил только коня, однако с тех пор король решил, что путешествие в мягкой карете хотя не столь удобно, зато все-таки там если и ушибешься когда при тряске, то все ж не до смерти.
Был жаркий июньский день, и король в этой душегубке буквально жарился заживо. Он считал все эти поля почти своими, все эти аккуратные зеленые деревушки, что проплывают за окном кареты тоже. Они обязательно перейдут к нему, когда этот старый дурак Карл Орлеанский умрет через несколько лет.
Загорелые до черноты крестьяне, что собрались в небольшие группки по краям своих полей и приветствовали короля, тоже должны были стать его собственностью. Король Людовик уже передвинул границы своих владений на карте, что висела в его кабинете. Теперь придется возвращать назад, забыть про богатые плодородные поля, про хорошо укрепленные города. А все потому, что герцогиня родила сына!
Видя, что король в дурном расположении духа, Оливер ле Дем, его секретарь, задвинулся в угол прыгающей на ухабах кареты настолько, насколько позволила его солидная комплекция. Постоянно растущая полнота сейчас ему сильно досаждала. Пухлое лицо раскраснелось и покрылось капельками пота. Он хотел есть — а есть он хотел всегда — и грустил. Для этого были причины. Дело в том, что сегодня ему исполнилось сорок лет. И вместо того чтобы отмечать это событие в прохладной полутемной гостиной за чаркой доброго вина и со специально откормленным кабаном, с жаренной на вертеле дичью на столе, его круглое короткое тело, как мяч, прыгало от одной стенки кареты к другой, а хозяин смотрел на него так, словно хотел ударить.
Король действительно любил разряжать свои эмоции, давая тумаки своему секретарю. Вот и теперь он вдруг треснул тростью по колену Оливера.
— Просыпайся, Оливер! Ты так храпишь, что лошади могут взбеситься.
Оливер и не собирался спать, тем более храпеть, но он давно привык просить прощения за то, чего никогда не совершал. Поспешно извинившись, он все же допустил одну ошибку, незаметно вздохнул.

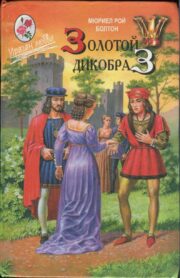
"Золотой дикобраз" отзывы
Отзывы читателей о книге "Золотой дикобраз". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Золотой дикобраз" друзьям в соцсетях.