Средний класс в Милане (да и нижние слои тоже) был слишком занят трудами, чтобы бедствовать.
Всеобщее увлечение искусством тоже было для них внове. Во Франции, разумеется, существовали придворные поэты и художники. Но не так уж много они и творили. В Италии, казалось, каждый только и говорил об этом молодом художнике да Винчи, о замечательном старом скульпторе Донателло, который недавно умер, а его ученики, похоже, особых надежд не подают, кроме, пожалуй, Андреа Мантенья. Горячо спорили, чей проект лучше подходит для нового большого собора, что строится сейчас в Риме, об упадке литературы — новые выдающиеся писатели что-то не появляются, только подражатели Данте и Петрарки.
Нужно, чтобы у людей были деньги и свободное время. Это почва, на которой произрастают все искусства. И Италия, как гигантский котел, буквально клокотала, кипела ими.
С досадой замечал Людовик, что Италия куда значительнее, современнее и прогрессивнее Франции. И было не трудно понять почему. Запустение Франции из-за долгой изнурительной войны с Англией, в то время как Италия, хотя стычки между отдельными герцогствами здесь время от времени вспыхивали, имела много больше времени, чтобы подумать о себе. Ухоженная и накормленная, она сейчас начала подумывать о роскоши.
Но в Италии было не только это. Здесь процветали и грубость, и голый материализм. Все это было следствием пережитого шока, освобождением людей от былых иллюзий, осознавших лицемерие церковной власти. На это указали сами служители церкви, первыми осознавшие, понявшие необходимость реформ. Затянувшийся раскол и склоки вокруг Папского престола, мздоимство и торговля индульгенциями не могли не подорвать веру людей, и они начали читать пламенные проповеди и поэмы молодого монаха по имени Савонарола. Он писал их в своей келье монастыря Св. Доминика в Болонье, и с быстротой ветра они распространялись по стране. Но потеря веры всегда связана с потерей морали. И, не веря больше в славу небесную, люди обратили свои взоры к славе мирской.
Скульпторы отказались славить Бога и вместо этого начали прославлять человека. Многие художники сняли с мольбертов недописанных Мадонн с младенцами и занялись более чувственными нимфами и сластолюбивыми сатирами. Все больше и больше воздвигалось великолепных прекрасных соборов, но их нутро, их сердце становилось все более мирским.
Наши друзья считали пределом возможного гостеприимство, с каким их встречали в Савойе. Но это было ничто по сравнению с Миланом. Каждый их день здесь был расписан по минутам. Эти трое молодых французов были очень популярны, особенно среди молодых дам, большинство из которых, к счастью, говорили по-французски. А те, кто не умел, в спешке начинали учиться, чтобы иметь возможность пофлиртовать с симпатичным молодым герцогом Орлеанским, чья бабушка была Висконти.
Элеонора дель Терцо говорила по-французски с пикантным акцентом, что каждой ее фразе придавало особый возбуждающий аромат. Людовик находил ее весьма привлекательной, и несомненно, это чувство было взаимным, ибо она постоянно появлялась рядом с ним: на банкетах и балах, конных прогулках и пикниках в лесу; а однажды вечером в маленьком закрытом садике позади дворца Висконти она оказалась вдруг в его объятиях, с полузакрытыми глазами, и губы ее потянулись к его губам.
Она была очень хороша, а тут еще теплая лунная итальянская ночь. Анна была далеко во Франции, и этот легкий флирт никак не ранил ее. Он наклонился и поцеловал мягкие губы Элеоноры, надолго прижав ее к себе. И его окутало блаженство. А ее ответный поцелуй, ее маленький дерзкий язычок приглашали Людовика к чему-то большему, чем просто легкий флирт.
Людовика не удивило, если бы она была одной из придворных дам, искушенной, безразличной к своей репутации, но Элеонора была юна и не замужем. Это была девушка с безукоризненной репутацией, из хорошей семьи. Людовик вспомнил ее большую семью, ее огромных братьев, ее рослого основательного отца и отпустил ее. Но она не торопилась освобождаться от его объятий, напротив, часто дыша, глядя в глаза и улыбаясь, она прильнула к нему еще ближе.
— Я люблю тебя, — прошептала она по-итальянски, а затем повторила по-французски. На обоих языках она говорила одинаково знойно.
Это было гораздо больше, чем хотел бы Людовик, но, к облегчению своему, он услышал шаги. В этом милом садике решила найти приют еще одна пара. Элеонора поспешно убрала с его шеи свои обнаженные прохладные руки и зашептала на ухо, что она сегодня ночует в этом дворце, подробно рассказала ему, в какой она будет комнате, сказала, что сейчас направляется прямо туда и будет ждать его там. И прежде, чем Людовик успел что-либо ответить, она подхватила свои парчовые юбки и поспешила через сад ко дворцу. Людовик долго смотрел ей вслед, затем тоже поднялся и медленно через другой вход прошел во дворец.
Он знал, что пойдет к ней, бурлящая в нем кровь взывала к этому. Он с удовольствием думал о ней. Она была очень мила, ее мягкие каштановые волосы были разделены посередине, так сейчас в Италии было модно, а кожа ее такая нежная и матовая. Провести с ней ночь — это счастье, но что она имела в виду, когда сказала, что любит его. Ну, конечно же, это преувеличение, милое такое кокетство, чтобы романтизировать ситуацию. Ничего серьезного ему, разумеется, не было нужно. Он был уверен — с любой другой девушкой ничего бы и не было серьезного, но Элеонора, с ее тремя братьями, да еще такими огромными…
На площадке между двумя лестничными пролетами он лицом к лицу встретился с двумя из трех ее братьев и остановился как вкопанный, чувствуя за собой вину. Однако Джованни и Филиппо дель Терцо приветствовали его по всем правилам дворцового этикета. Они надеются увидеть его сегодня вечером, они также выражают надежду на его долгое пребывание в Милане, который, в известном смысле, является его домом. Однажды он послужил их семье, послужат они и ему. Во всех смыслах.
Людовик поблагодарил их, затем поблагодарил их снова, но они, похоже, не считали встречу законченной. Братья обменялись взглядами, затем Джованни, старший из них, спросил, не могли бы они продолжить разговор в таком месте, где бы им никто не помешал.
Чувствуя себя исключительно неловко, заинтригованный Людовик предложил свои апартаменты, и они быстро направились туда. Если это из-за Элеоноры, то он не хотел бы шума, чтобы было слышно во всем дворце. Если дело дойдет до кинжалов, ладно, он готов и к этому. С двумя ему, конечно, не справиться, но одного из них он обязательно одолеет. «И все равно я попаду на Небеса, — криво усмехнулся Людовик, — моя совесть чиста, даже если братья мне и не поверят».
Он толкнул дверь и с облегчением увидел, что Макс на месте. Было ясно, что тот только что пришел и что он опять откалывает свои старые номера, поскольку был одет в сапоги с длинными носами и совсем недавно сбросил с головы длинный капюшон. Больше того, на нем была серебряная цепочка с маленькими колокольчиками на каждом звене. Это тоже запрещалось носить простым людям, но Макс поедал глазами эту забавную вещицу, когда ее пару раз надевал Людовик. Он уже давно не употреблял эту цепь, Макс же продолжал заботливо ее полировать. «Наверное, Макс сопротивлялся искушению столько, сколько мог, а может быть, — подумал Людовик, — он все время носил ее, а только сейчас попался, потому что я вернулся раньше, чем предполагалось».
Людовик подумал о том, какую трепку задаст он ему завтра, и вдруг остановился. А будет ли у него завтра? Он посмотрел на Макса со значением, что означало будь поблизости, а затем вежливо пригласил гостей проследовать в гостиную.
Людовик выдвинул два затейливо украшенных резных кресла, и оба брата сели, пытаясь пристроить свои огромные руки и ноги. Эти кресла были им явно малы. Людовик стал между ними, спиной к мраморному камину, и начал ждать, когда они начнут высказывать свои претензии.
Начал Джованни.
— Мы считаем большой честью принимать вас здесь, в Милане.
Он говорил уже это там, на лестнице, и Людовик вежливо кивнул.
— Благодарю вас, это большая честь для меня быть здесь, в этом прекрасном городе.
Он это уже тоже говорил.
— Вся наша семья восхищается вами, мои братья, моя сестра. Вы, конечно, помните мою сестру?
«Вот теперь это уже настоящее начало», — подумал Людовик.
— Да, разумеется, я помню ее.
Теперь настал черед Филиппо.
— Она считает вас очень симпатичным.
Людовик скромно потупил взор и принялся массировать левое запястье.
— Всякий, кто увидит ее, не может пройти мимо ее красоты.
Большое лицо Джованни сморщилось, что означало, по-видимому, улыбку, его маленький блестящий глаз понимающе подмигнул.
— Ничего удивительного, что она влюбилась в вас.
Людовик покачал головой.
— Это меня удивляет.
— О, вы чересчур скромны, Ваше Высочество. Все дамы в Милане без ума от вас.
— Но моя сестра, — продолжил Филиппо, — она не такая, как все эти дамы. Она целомудренная девушка.
— Я в этом никогда не сомневался, — быстро произнес Людовик.
— Ее любовь обязательно должна быть освящена церковью, — твердо заявил Джованни.
— Я с вами полностью согласен, — с уверенностью подтвердил Людовик.
Филиппо и Джованни колебались, что-то нерешенное существовало между ними. Джованни едва заметно кивнул и встал, обратившись лицом к Людовику. Тот напряженно застыл.
— Сейчас ей пятнадцать лет, пора выходить замуж.
— Я уверен, у такой красивой девушки проблем с замужеством не будет.
Тут поднялся и Филиппо.
— Она может выбирать из дюжины достойных женихов.
— Я в этом никогда не сомневался, — снова повторил Людовик.
Пока что-то ничего не понятно. Если они собираются упрекнуть его в том, что он нарушает планы замужества Элеоноры, то делают это в весьма странной манере.

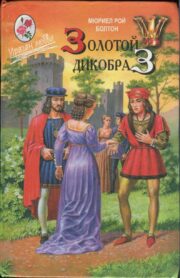
"Золотой дикобраз" отзывы
Отзывы читателей о книге "Золотой дикобраз". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Золотой дикобраз" друзьям в соцсетях.