И странно – за две с лишним недели их встреч он ни разу даже не поцеловал ее. Ни одной попытки не сделал! А как она этого ждала, как хотела – только слепой не заметил бы… И это в наше-то стремительное время, когда не то что поцелуй – постель воспринимается как само собой разумеющееся – немедленно и без обиняков…
Если честно признаться, Вера исчезла-то в эти дни еще и от обиды на Алексея, на его пассивность и… равнодушие. Да! Ничем, кроме равнодушия к себе как к женщине, она не могла объяснить его холодности.
Как часто казалось ей – вот сейчас! Когда он бережно полуобнимал ее, помогая перебраться через лужицу на бульваре, или когда сидели они бок о бок в театре и он, склонившись, шептал что-то на ухо… Она же видела, как он волновался тогда, ощущала, как учащалось его дыхание…
А может, он болен? – спрашивала она себя, теряясь перед этой загадкой. И тут же решительно протестовала: нет, этого быть не может! Единственное, что ей оставалось, – отнести все это к странностям художника…
– Алеш, с тобой все в порядке? – тронула она его за руку. – Ты как-то… – Вера запнулась, видя, как лихорадочно блестят его глаза на осунувшемся лице.
– Плохо выгляжу? – уточнил он. – Знаешь, тоже работы много, картину заканчиваю. Две ночи не спал. Слушай, – они так и продолжали стоять посреди читального зала, – давай на все наплюнем и – ко мне в мастерскую! А? Давай! Я работы свои покажу…
– На все наплевать – исконное свойство русского человека! Пошли.
И они отправились на Петровку.
5
Кухонька – маленький, выгороженный самодельной перегородкой закуток. Табурет. Столик. Плита. Горка чисто вымытых сковородок. Закопченный до черноты эмалированный чайник. Размороженный холодильник с открытой дверцей – совершенно пустой.
– Как же ты тут живешь? – посочувствовала Вера.
– Кофе есть! Чай. Крупы какие-то…
– Ты что, одни крупы ешь? Сутками напролет? – Она было разделась, но тут же снова начала одеваться. – Сейчас я в магазин, а ты пока чайник ставь.
– Погоди-погоди… – мягко остановил он, – все у нас есть! Сейчас достану.
Снова помог ей раздеться и повел в мастерскую – просторное полупустое помещение. В одном углу – узкий допотопный диванчик, покрытый вытертым пледом, в другом – два продавленных кресла и стол. Неподалеку от диванчика ширма. И венский колченогий стул, прислоненный к стенке. На нем – небрежно наброшенная вязаная женская шаль с кистями.
Глянув на эту шаль, Вера стиснула зубы.
«Дура! – сообщила она себе. – Что он тут – анахоретом живет, акридами питается?! Такой мужик… Небось одних натурщиц… И кто ты ему, чтобы ревновать? Не любовница даже…»
Но, несмотря на здравые эти размышления, заноза в душе саднила.
Посередине мастерской на мольберте был укреплен холст, натянутый на подрамник. На нем – обнаженная дива восточного типа, свернувшаяся на постели клубочком. И круг, образованный ее телом, свернутым в спираль, отчетливо ассоциировался с витой раковиной. Вере картина понравилась, но образ был слишком лобовым, слишком уж очевидным… Тут не хватало чего-то… Может быть, тайны?
Но внимание тут же переключилось на картины, развешанные по стенам. На всех была изображена одна модель – очень красивая и очень грустная, задумчивая женщина. Черты ее были чуть-чуть размыты. Слезами, дождем? Предположить можно было все что угодно. Она пристально глядела на вошедших, будто следила за ними. Вера поежилась. Как живая!..
Алексей между тем достал из деревянного подвесного шкафчика вазочку с фисташками, конфеты, несколько яблок, бутылку армянского коньяка, хрустальные рюмочки.
– Алеш, кто эта очаровательная женщина? Твоя модель? – спросила Вера, кивнув на портреты.
– Садись. – Он указал ей на кресло. – Это мы положим так, а это – так. По-моему, совсем неплохо, как думаешь? – С довольным видом он осматривал столик, уставленный нехитрым угощением, и явно уходил от ответа. – Слушай, я так рад, что мы сбежали из библиотеки. Давай выпьем за то, что я наконец могу показать тебе мое царство. За то, что ты здесь! – Они чокнулись, выпили, и Вера захрустела сочным краснобоким яблоком – она с утра ничего не ела.
– Ну, как тебе у меня? – Он подошел к этажерке с кассетником, стоявшей в углу у стола, порылся в куче кассет. Мастерская зазвенела хрустальными переливчатыми мелодиями. Чистые, прозрачные, они переливались, дрожали, вспыхивая гирляндами разноцветных огоньков звука.
– Что это? Никогда не слышала ничего подобного! – воскликнула восхищенная Вера.
– Ты любишь джаз?
– Нет, пожалуй. Может, просто не мое… Не знаю. Я классику больше люблю.
– Хочешь, поставлю Моцарта? Или Рахманинова…
– Нет, пусть остается. Мне нравится. – Она встала и принялась бродить по мастерской, осматриваясь, пытаясь вжиться в это пространство.
Хозяин, не скрывая удовольствия, наблюдал за ней.
Движения Верины были порывистыми, немного нервными, но не утрачивали от этого природной фации и изящества. Она словно бы танцевала, слегка покачивая бедрами и склоняя голову то вправо, то влево. Руки касались картин, рам, всех предметов, будто знакомились с ними.
– Слушай, а это что такое? – Вера остановилась перед прикрепленным к стене небольшим квадратом белого шелка, на котором сияла алая окружность и три алых круга в ней.
– Знамя Рериха. Знамя Мира. Один приятель из Индии привез.
– А что это значит?
– Большой круг – бесконечность. Маленькие в нем – символ триединства. Прошлое, настоящее, будущее. Вера, надежда, любовь. Можешь сама этот ряд продолжить.
– Это как символ веры. Во что?
– В Красоту с большой буквы. Это знак мировой гармонии, пути к совершенству.
– А как у тебя с совершенством? Достиг?
– Смеешься? Я еще в самом начале пути.
– Ха-ха, сколько же тебе лет?
– Тридцать шесть. Давай-ка за красоту выпьем.
– За совершенство? – не без ехидства уточнила Вера.
– Да нет, за такую, которая нам доступна.
– Вот за такую? – продолжала ехидничать Вера, указывая на девушку-раковину на мольберте.
– За… твою красоту! Глупая… – Он встал и направился к ней, держа в руках рюмки с качавшейся в них темно-коричневой жидкостью.
– Ага, значит, моя красота доступна, – рассмеялась Вера, не скрывая, однако, удовольствия: разродился-таки! И тут же приложила палец к его губам, едва Алеша собрался что-то ответить… Боялась – вдруг скажет банальность и разрушит ту искренность и теплоту, которая, кажется, начала возникать между ними…
Они выпили. Откуда-то возник на столе наивный, по-детски нежный салат, умиротворенный оливковым маслом и ранними помидорами.
– Да ты волшебник, оказывается! У тебя же ничего не было… Да и отлучался на кухню на секунду какую-то. Ты что, ждал кого-то? Заранее к встрече готовился? – Ей все это страшно нравилось: и музыка, и нежданное угощение, и вся атмосфера праздника – непринужденная, легкая, идущая, кажется, от самих стен, картин.
«Господи, глупость какая! – подумала Вера. – При чем тут стены? Просто он рядом, и сердце поет…»
– Волшебники никогда не раскрывают своих секретов, – сообщил он ей «страшным» шепотом и состроил рожицу.
Вера рассмеялась. И наступил вечер.
Легонько капали минуты. В мастерской качался сиреневый сигаретный призрак. И Верино лицо, склоненное над изломом тонкой кисти, теплело, разгоралось, становилось по-домашнему задумчивым. Ей было покойно и хорошо.
– Ты знаешь, Алеш, не могу смотреть на эти дома. У меня от них чувство удушья, голова какой-то чугунной становится. И дело даже не в архитектуре… И я говорю не только о новостройках, когда, как в «Иронии судьбы», можно Ленинград перепутать с Москвой… Любые дома… Что сталинский ампир, что хрущобы, что высотки – они все, как бы это сказать… неживые, что ли. И люди – бедные, у всех лица такие опрокинутые, такие подавленные. Испуганные… Так жаль людей, разве они не заслуживают хоть капли радости!
– А себя тебе не жаль? Разве ты – с твоей грацией, с этакими глазами – живешь не в том же времени? Разве ты сама не заслуживаешь иной жизни?
– Как и все! Разве я чем-то отличаюсь от всех?
– Еще как отличаешься!
Вера, довольная, покраснела и потерла лоб, чтобы скрыть смущение.
– Ну, не знаю… Так я про дома… Как представлю, сколько в них боли… Сколько горя там, за стенами.
– Слушай, ты, по-моему, преувеличиваешь… Зачем так мрачно? Там ведь и счастье есть…
– Счастье? Это что такое? – спросила Вера, в упор глядя на Алексея.
– Ну-у-у, я не знаю… – Он даже растерялся от такого вопроса. – Любовь. Семья, дети…
– Любовь? – переспросила Вера. И сама себе ответила горько: – Это на первые несколько месяцев.
– А ты… – Алексей вскочил и широкими шагами принялся мерить мастерскую, – была замужем?
– Замужем? – Она улыбнулась. – Нет, не была.
– Так откуда ты знаешь, сколько длится любовь… в браке?
– А я не о браке говорила – я вообще, так сказать, в принципе.
– Значит, несколько месяцев… Что за глупость такая! Говорят ведь, любовь сильнее смерти! – Он злился на собственную горячность, а Вера про себя прыгала от восторга – она его расколола! Своим напускным нигилизмом она заставила его признаться, что он верит в это чувство. Нет, он не лягушка холодная, не замороженный – он живой, настоящий! Она ликовала. Только виду старалась не подать…
– Леш, ты меня все время отвлекаешь от темы. Дай досказать.
– Да говори, Христа ради, кто тебе не дает… – Он вернулся к столу и сел в свое кресло.
– Знаешь, я в детстве подолгу стояла возле замка в Покровском-Стрешневе, мы там дачу снимали… Там такой замок из темно-красного кирпича, и мама говорила, что, наверное, это замок Синей Бороды… Ну вот, он тогда был заброшен, да и сейчас, скорее всего… А я ждала – вот его двери распахнутся и случится что-то тайное и чудесное… я так ждала чуда! Но двери оставались закрытыми, а на меня наваливались блочные пятиэтажки и эти… толпы с раздавленными серыми лицами. И бедная моя мама – она словно стала частью этой толпы – у нее теперь почти такое же лицо… Не знаю, ты понимаешь, о чем я говорю?..

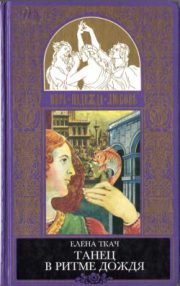
"Золотая рыбка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Золотая рыбка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Золотая рыбка" друзьям в соцсетях.