– Ты выслеживала рысь, а я человека. Моему слуге что-то взбрело в голову, и он удрал прошлой ночью. Бог знает зачем, я никогда не обижал этого парня. Теперь бедолага или умрет от голода, или его задерет медведь.
– Может, он думает, что любой риск стоит свободы.
– Дурак, если думает. Никто не станет помогать беглому холопу, – Генрик ударил по земле хлыстом. – Я мог спустить на него собак. Мой отец так бы и сделал. Как хозяин он в полном праве, но все-таки...
Генрик замолчал.
– Все-таки ты не захотел этого сделать?
– Думаешь, я струсил?
– Не вижу никакой храбрости в том, чтобы до смерти затравить человека собаками.
– Услышал бы тебя твой батюшка.
– Пусть слышит. Я уже взрослая и могу иметь собственное мнение.
Генрик восторженно посмотрел на ее разрумянившееся лицо и сказал:
– Он, наверное, побежал к казакам или к староверам.
– К староверам?
– В ста верстах к востоку отсюда находится монастырь староверов. Там собираются всякие беглые холопы и каторжники.
– Да кто же такие староверы, скажи на милость?
– Это русские еретики. Я точно не знаю, кажется, они сжигают себя в церквях. Они появились во времена Петра Великого, а может, и Ивана Грозного. В общем, они сумасшедшие.
– Наверное, патер Загорский тоже старовер. Он с удовольствием сгорел бы во славу Божью, дай ему только в нужную минуту огонь. Он тоже сумасшедший.
– А еще он очень часто распускает свои руки.
– Откуда ты знаешь?
Генрик засмеялся.
– О своих ближайших соседях я знаю все, хоть и не бываю у них.
– Но откуда?
– Спроси у Яцека или у Адама. Они учатся вместе, Разве не помнишь?
Вечернюю тишь огласил пронзительный вопль выпи. Высоко в небе пролетел широкий косяк диких гусей, перекликающихся друг с другом.
– Наконец-то зима кончилась, – сказал Генрик. – Они торопятся на север.
– Я буду скучать по ним, – ответила Казя. – Я так люблю смотреть по утрам, как они пролетают над нашим домом. Все равно осенью они вернутся обратно.
Генрик повернул голову вслед птицам. – Это дикая музыка, – сказал он, – цыганские скрипки -. ветер в деревьях, шорох зверя в траве.
Казя посмотрела на него с любопытством.
– Я чувствую эту музыку, – она выдернула из земли травинку и сжала ее губами. – Мишка говорит, что они прилетают оттуда, где восходит солнце, из монгольских степей. Он зовет их казацкими птицами, ведь они свободны, как ветер. Мне так хочется повидать казацкие земли. На сотни и сотни верст кругом только один ковыль, а ты скачешь и скачешь, а потом спишь на солнышке где-нибудь на берегу Дона.
– А воевать? Какой же ты казак, если не будешь воевать. – Он повернулся к ней и серьезно, но с прежним скрытым смехом в глазах сказал: – А боец из тебя получится хороший.
– Спасибо.
Казя скромно потупила взор, а Генрик продолжал:
– Профессор Конарский в университете описывает казаков совсем по-другому. Он говорит, что они вероломные, ленивые, грязные, распутные существа.
– Вот как? Пусть твой драгоценный профессор попробует выступить с такой лекцией перед Мишкой, А он сам там бывал? Я имею в виду, на Дону.
Вместо ответа Генрик разразился смехом.
– Что смешного?
– Представил себе, как профессор Конарский ловит блох в казацкой хижине.
– Я думала, что ваш университет отличается либерализмом и просвещенностью, – холодно сказала Казя. – Удивляюсь, что отец послал тебя в такое место.
– Все очень просто, я второй сын в семье и должен сам устраивать свою жизнь. Адам унаследует Липно, и, чтобы защищать имение от набегов и бунтов, он сейчас усиленно штудирует в шляхетском корпусе военное дело, – насмешливо произнес Генрик.
– Это ты должен был стать солдатом, Генрик.
– Я знаю.
Он резко привстал, запустив длинные пальцы в темные вьющиеся волосы.
– Лучше бы я жил сто лет назад, – сказал он, – когда Польша была великой. Сегодня мы живем в ничтожной стране. – В его голосе тлела готовая вспыхнуть страсть. – Конарский учит нас, что слава и гордость народа ничего не стоят, нас пичкают воззрениями, которые наверняка пришлись бы по вкусу твоему кузену Понятовскому. Нам говорят: «Отложите в сторону саблю и возьмите перо, живите в мире даже ценой унижения». В этом есть доля разумного, но все остальное вздор, глупый трусливый вздор.
Он погрузился в угрюмое молчание, раздраженно грызя травинку. Когда улыбка вновь осветила его лицо, он уже не казался мальчиком. Сузившиеся глаза и сурово сжатый рот делали его мужчиной.
– Я никогда об этом не думала, – сказала она, но он, казалось, ее не слышал.
– Мой дед был одним из тех, кто разбил турок под Веной. Всю Северную войну он служил в гусарском полку, и на его теле не осталось живого места. Однажды я стащил его саблю и начал играть ею во дворе. Дед увидел это и так мне всыпал, что я неделю не мог сидеть на стуле. Он хотел, чтобы я поехал учиться в Краков в шляхетский корпус и стал кавалеристом, как он сам. Когда меня отправили в университет, он постарел сразу на двадцать лет. Он сказал, что это конец Польши. – Генрик снова по-мальчишески улыбнулся: – Я и не знал, что от меня зависит судьба Польши.
– Старики думают, что мы бросили все, за что они сражались. – Он вздохнул с мудростью, не свойственной его юным годам. – Кто знает, или мы потеряем все, или вновь сделаем Польшу великой.
– Я понимаю тебя, – пылко сказала Казя, – мой дед в сражении под Смоленском, а мой отец говорит точь-в-точь, как ты.
– Так говорят многие поляки, – ответил он с горечью. – Мы охотно говорим о том, что надо сделать, но кто до сих пор сделал хоть что-нибудь? Слова сами по себе ровно ничего не стоят.
Генрик лежал с закрытыми глазами, и Казя имела возможность всмотреться в него более внимательно. Она легко могла представить его во главе войска. Должно быть, много лет назад таким был Мишка: чутким, как спящая пантера; кулаки сжаты, все тело готово в любой момент разогнуться, как стальная пружина, вскочить в седло и ринуться на врага. Внезапно, как появившееся из-за туч солнце, его глаза загорелись.
– А ты чуточку изменилась, – сказал он насмешливо.
Казя почувствовала на своей груди его взгляд и покраснела. Приставив ко рту ладони, она ответила кукушке так тихо, что он едва сумел уловить ее голос.
– Что ты им говоришь?
– Говорю, чтобы не ленились и строили себе гнезда. Они вместе рассмеялись шутке.
– Я вспоминаю маленькую вертлявую девчонку с носиком пуговкой и всю измазанную шелковицей.
– А милую девочку в голубой амазонке ты разве не помнишь?
– С очень подходящим прозвищем «лягушонок», – продолжал он невозмутимо, – У нее был такой большой рот, что она могла проглотить медведя. Так говорил Яцек?
– Не медведя, а волка.
При упоминании волков ее губы чуть заметно вздрогнули, обнажив мелкие белые зубы.
Генрик осведомился о ее матери и тетушке Дарье:
– Она до сих пор держит своих собачонок?
– Кроме них она обзавелась попугаями. Генрик добродушно выругался.
– А ты до сих пор убираешь у нее в комнате?.. А старый Мишка все еще дерзит?., Что соколы?., Отец до сих пор покупает лошадей по всей Европе?..
Они вспоминали наперебой, перебивая друг друга, пока солнце не закатилось за верхушки деревьев. Одна за другой умолкли кукушки, лишь высоко на ветках продолжали ворковать неутомимые горлицы. Казя потеряла счет времени.
– Фике, Фике, слезь с этой лошади! – вдруг передразнил Генрик. – Помнишь, принцесса Иоганна высунулась из окна синевато-багровая, как баклажан? А малютка Фике взгромоздилась на тяжеловоза с таким видом, будто это был эшафот. – Он ухмыльнулся. – Она вцепилась в гриву обеими руками, пока ты вела коня за повод и уверяла ее, что все в порядке.
– Мишка смеялся до слез...
Казя вспомнила холодную ярость, с которой принцесса Иоганна кричала на свою безрассудную дочь, В дверях сарая толпилась немецкая свита и глазела на свою маленькую принцессу, восседавшую на флегматичном тяжеловозе, важной поступью обходившем мощеный двор. Принцесса Иоганна допытывалась, как ее дочь осмелилась рисковать жизнью, сев в седло. Ортопедический корсет сняли только вчера... предположим, что она бы упала... Предположим то, предположим это. А виновата в том она сама, виновата Казя и вообще все... Но Фике встретила сердитый взгляд матери с обычным невозмутимым достоинством.
– Если бы она свалилась с коня, – сказал Генрик задумчиво, – и снова повредила спину, то не вышла бы замуж за великого князя и не стала бы императрицей.
– А Фике станет императрицей? – удивилась Казя.
– Почему бы и нет. Петр, ее муж, племянник Елизаветы и ее наследник. Во всяком случае, так говорят в Варшаве.
Я невольно представила себе маленькую головку Фике, увенчанную сверкающей огромной короной. Фике сидела прямая, очень сосредоточенная, ее кулачок сжимал скипетр, словно меч.
– Удивительно, – продолжал рассуждать Генрик, – как великие события зависят порой от сущих пустяков. Возьмем, к примеру, сегодняшний день. Если бы моему слуге не пришло в голову удрать, разве появился бы я у этой березы?
– Ну-у-у, – протестующе протянула Казя, – так можно слишком далеко зайти.
– Судьба, случай, рок – вот от чего зависит наша жизнь. Как бы мы ни стремились избежать их, цепочка невидимых происшествий всегда застигает нас врасплох...
– Выходит, мы просто марионетки, которых кто-то дергает за нитки? Ах, Генрик, этого не может быть.
– Скажи, – произнес он в ответ, – разве ты знаешь, куда в следующую секунду ударит молния? Разве ты знаешь, когда твоя лошадь угодит ногой в сурчиную нору?
– К чему думать о судьбе в такой прекрасный вечер?
– Воля Аллаха, – сказал он, – так говорят турки.
– Угольщик на расчистке сказал мне, что турки снова пересекли границу.
– Как их унять? – Генрик сердито нахмурился. – Если бы Ян Собеский был жив, они бы не осмелились выступать против Польши. А если бы и осмелились, то быстро бы присоединились к своему драгоценному Аллаху на небесах.

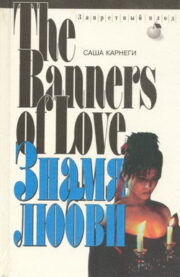
"Знамя любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Знамя любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Знамя любви" друзьям в соцсетях.