Закупками различных материй и галантерейных изысков занимались все без исключения иностранные посланники русского двора, и конечно, особенное старание должны были проявлять в этом послы во Франции. Императрица в подробностях расспрашивала французского посланника при дворе обо всех новинках в Париже, обо всех новых магазинах и лавках, и затем ее канцлер поручал послу в Париже М. П. Бестужеву-Рюмину нанять «надежную персону», которая могла бы подбирать вещи «по приличности мод и хорошего вкуса» и посылать все это в Петербург. Расходы на это шли немыслимые — 12 тысяч рублей. Но сверх того многие агенты еще оставались должны, так как императрица не всегда вовремя расплачивалась.
По воспоминаниям ее невестки Екатерины, императрица «не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись в слишком нарядных туалетах», она могла заставить великую княгиню переодеть слишком удачный наряд или запретить надевать его еще раз.
Однажды на балу Елизавета подозвала Н. Ф. Нарышкину и у всех на глазах срезала украшение из лент, очень шедшее к прическе женщины, в другой раз она сама остригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин под предлогом того, что не любит такого фасона прически, а сами фрейлины потом уверяли, что ее величество вместе с волосами содрала немного и кожи.
Ее фантазии могли поразить любого заезжего иностранца. Екатерина рассказывала, как «в один прекрасный день императрице нашла фантазия велеть всем дамам обрить головы. Все ее дамы с плачем повиновались; императрица послала им черные плохо расчесанные парики, которые они были принуждены носить, пока не отросли волосы». Вскоре последовал указ о бритье волос у всех городских дам высшего света. Каково было всему Петербургу смотреть на эту прискорбную картину? А между тем причина этого была вполне тривиальна — сама Елизавета неудачно покрасила свои волосы и была вынуждена остричься.
Ее страстью были карнавалы, маскарады и балы, о коих тоже следовали специальные высочайшие указы, и приходить на них были обязаны все приглашенные. На маскарадах присутствовали только дворяне, часто до полутора тысяч человек, при входе в зал их осматривали гвардейцы, снимая маски и проверяя лица. Часто устраивались маскарады с переодеваниями, где женщинам предписывалось быть в мужских костюмах, а мужчинам — в женских, но «нет ничего безобразнее и в то же время забавнее, как множество мужчин, столь нескладно наряженных, и ничего более жалкого, как фигуры женщин, одетых мужчинами». При этом не благосклонная к ней невестка замечала, что «вполне хороша была только сама императрица, к которой мужское платье отлично шло...». Это знали все, знала и сама императрица, со времен переворота любившая щеголять в мундире.
Понятно, что правы были те, кто считал, что у Елизаветы было «много тщеславия, она вообще хотела блистать во всем и служить предметом удивления».
Мы не касаемся здесь истории жизни этой удивительной женщины и ее политических и государственных успехов и поражений, все было в ее судьбе...
Но несомненно то, что рожденная в день, когда русская армия торжественно входила под звуки музыки и с развернутыми знаменами в Москву после победы в Полтавской битве, она была счастливейшей из женщин империи. Ее отцом был Великий Петр, очень любивший своих дочерей, называвший ее «Лизеткой» и «четвертой лапушкой». Она, согласно представлениям отца, получила хорошее воспитание, знала множество языков и предназначалась Петром, как и все царевны, для укрепления династических связей с европейскими дворами. Петр хотел выдать дочь-красавицу за французского короля Людовика XV или за кого-нибудь из дома Бурбонов, но чопорный Версаль смутило происхождение матери-простолюдинки. До самого вступления на престол Елизаветы ее имя мелькало во многих европейских брачных комбинациях, среди ее женихов числились Карл Август, князь-епископ Любский, принц Георг Английский, Карл Бранденбург-Байрейтский, инфант дон Мануэль Португальский, граф Маврикий Саксонский, инфант Дон-Карлос Испанский, герцог Фердинанд Курляндский, герцог Эрнст Людвиг Брауншвейгский и еще многие, и даже персидский шах Надир.
В ожидании женихов императрица веселилась, предавалась любовным утехам и ждала своего часа. При Анне Иоанновне у нее был свой двор, слишком отличавшийся и по возрасту — все были молодые люди, Елизавете 21 год, Шуваловым по 20 лет, Разумовскому 21 год, Воронцову 16 лет — и по энергичности празднеств, маскарадов, охот и увеселений. Она увлекалась пением и театром.
Елизавете симпатизировали гвардейцы, с которыми она водила тесную компанию, ее считали наследницей Петра, истинно русской принцессой.
Взойдя на престол с помощью этих гвардейцев, лично приняв участие в перевороте, она правила Россией двадцать лет.
Это было знаменательное двадцатилетие, будто бы дуновение петровских времен, по крайней мере так казалось сначала. Елизавета была счастлива своими фаворитами, не только видными мужчинами, но и умелыми правителями, при ней шло крупнейшее строительство самых знаменитых наших дворцов, при ней творил свои чудесные произведения архитектор Растрелли, она поощряла театр и музыку, ее фаворит Шувалов основал Российскую академию художеств и Российский университет, при ней, наконец, раскрылся гений Михайлы Васильевича Ломоносова, пииты Сумароков, Тредиаковский и Херасков слагали первые российские стихи, многое было при ней.
Для нас же важно сказать, что это была российская императрица, женщина необычайной, истинно русской красоты, сумевшая сохранить ее на многие годы.
Ценитель искусств барон Н. Н. Врангель, автор блестящего эссе о «дщери Петровой», описал ее так: ««Всепресветлейшая Елисафет», Всемилостивейшая Государыня, «Венера», женщина с глазами, полными воробьиного соку», богомольная затейница и веселая баловница, ленивая и беспечная, русская во всем Императрица отражает, как зеркало, пряничную красоту пышной середины XVIII века».
Но при этом барон и весьма точно определял ее «слабость» в этом «галантном» европейском веке: «Императрица Елисавета была последней русской Царицей еще в «дореформенном» значении этого слова и, как запоздалый дикий цветок, расцвела среди привозных оранжерейных растений. Вся она является таким цельным и милым нам, ныне уже выродившимся, славным типом русского характера, что все, кому дороги национальные заветы, не могут не любить ее и не восхищаться ею».
Марина Валерьевна Ганичева
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА ДОЛГОРУКАЯ
(1714–1771)
«Он один в сердце моем был...»
Наташа Шереметева, девочка резвая и веселая, была утешением отца и матери и надеждою их в старости. Графу Борису в год ее рождения исполнилось уже 62 года. С 1671 года и до самой смерти своей был он «государевым человеком», состоял всегда на царской службе. Начинал царским стольником, в тридцать лет был пожалован в бояре, в 1686 году ездил с посольством в Речь Посполитую, Австрию, где проявил себя незаурядным и хитрым дипломатом. Потом участвовал в Крымском и Азовском походах. Повидал граф и мир, и всякое иностранное диво. В 1697 году отправил его царь Петр в дальние страны в путешествие — «ради видения мореходных противу неприятелей Креста Святого военных поведений, которые обретаются в Италии, даже до Рима и до Мальтийского ордена». Московского вельможу принимали в Италии с почестями, он побывал в Венеции, его обласкали в Ватикане и принял папа римский. Потом проехал он через Сицилию и Неаполь и попал на Мальту, где ему торжественно вручили уникальную награду — алмазный Мальтийский командорский крест. Исполненный военными талантами, он на протяжении десятка лет при Петре командовал русской армией, был фельдмаршалом, героем Северной войны, героем Полтавы. Его боярское происхождение не позволяло ему пользоваться царской любовью, и он не был обласкан Петром, не входил в круг его приближенных. Однако Петр ценил Бориса Петровича за его умение добиваться победы, граф благодаря своей осторожности и обстоятельности никогда не спешил и стремился добиться удачного окончания баталии, только используя большой перевес в силах. Вся жизнь фельдмаршала была подчинена царской воле, Петр мало считался с его болезнями и желаниями. Шереметев очень любил Москву, но приходилось много времени проводить в новой столице, он умер в Москве и просил по завещанию похоронить свои останки в Киево-Печерской лавре. Но и последнее его желание не было исполнено. Петр исходя из своих соображений приказал похоронить фельдмаршала в некрополе Александро-Невской лавры.
Борис Петрович Шереметев был женат на Анне Петровне Нарышкиной, урожденной Салтыковой. И для него, и для нее это был второй брак. Каждый год жена приносила фельдмаршалу по ребенку. Первенцем был Петр, впоследствии владелец усадьбы Кусково, самый богатый помещик в России. Второй стала Наташа — дочка-красавица. Погодками родились любимый Наташин брат Сергей, сестры Вера и Екатерина. Семья была дружная, веселая, оттого и характер маленькой Наташи был мягким и уступчивым. В промежутках между баталиями фельдмаршал сумел составить большое состояние, немало способствовали этому его рачительность и прижимистость. Но в 1719 году он умер, оставив безутешную вдову с малыми детьми на руках. Наташе было тогда два года.
В том же 1719 году, в апреле, Петербург хоронил последнего сына Петра, наследника престола четырехлетнего Петра Петровича. Царь был безутешен. А между тем другой царственный мальчик, тоже Петр, веселый и здоровый, подрастал, внушая опасения самому императору. Это был внук Евдокии Лопухиной, сын царевича Алексея Петровича и вольфенбюттельской кронпринцессы Софии-Шарлотты. Мальчик тоже рано лишился родителей. Мать умерла при его родах, а отец был умерщвлен летом 1718 года при невыясненных обстоятельствах по приговору суда в Петропавловской крепости в Трубецком бастионе.
Петр Алексеевич подрастал, окруженный случайными учителями и лишенный внимания деда. Лишь после смерти своего наследника царь Петр стал обращать внимание на своего внука, не проявляя, однако, особой заботы о нем. Ни при каких обстоятельствах не собирался великий преобразователь оставить свой трон этому мальчику, за которым стояла вся старая знать, а значит, та Россия, которую он яростно выжигал и ненавидел. События в Зимнем дворце 29 января 1725 года перевернули жизнь всех царедворцев, да и всей России. Умер великий властелин, северный колосс. Умер, так и не оставив после себя наследников и не подписав своей воли. «Птенцы гнезда Петрова», новая знать была еще в силе, а потому ей удалось возвести на престол жену Петра Екатерину I. Но и тогда среди сановников уже раздавались голоса в поддержку законных прав прямого наследования, о бесспорном приоритете десятилетнего Петра Алексеевича занять престол деда. Однако силы были пока неравны.

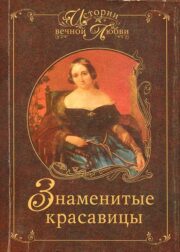
"Знаменитые красавицы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Знаменитые красавицы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Знаменитые красавицы" друзьям в соцсетях.