Хирам вздохнул и поднял глаза. Перед ним стоял Бакта, один из молодых жрецов великого Амона. Он обожал шумные развлечения и запретные удовольствия, тогда как Хирам предпочитал проводить время в тишине библиотеки наедине с бесценными свитками.
Юноша не любил ходить на берег днем и толкаться в толпе, он предпочитал вечерние часы, когда небеса напоминали перевернутую чашу с вином. Когда небо и землю, свет и тьму разделяла тонкая красная линия, когда можно было услышать дыхание Нила и шуршание песка под босыми ногами. Свободные часы выпадали нечасто; большая часть времени была посвящена обучению и работе в храме. В отличие от некоторых товарищей Хирам любил учиться; он как губка впитывал каждое слово своих наставников.
Хирам хотел отказаться от предложения Бакты, но потом передумал. У молчаливого, погруженного в себя юноши не было друзей, и, хотя он любил одиночество, случалось, оно начинало его тяготить, ибо избранное Хирамом поприще предполагало не просто общение с людьми, а необходимость повелевать ими от имени великого бога.
Бакта был новеньким; прежде юноша жил в Мемфисе. Когда его отца, высокопоставленного чиновника, перевели в Фивы, тот взял сына с собой и Бакта продолжил службу в храме Амона. Очутившись среди чужих людей, молодой жрец инстинктивно потянулся к тому, кто был обделен вниманием сверстников.
Хирам отложил папирус и встал.
Как младший служитель Амона, он был одет только в юбку белоснежного льна и не носил никаких украшений. Среднего роста, стройный, с бледным лицом, задумчивыми серыми глазами, юноша казался болезненным и хрупким, хотя на самом деле был сыном крестьянина и в его жилах текла здоровая кровь.
Хирам и Бакта вышли из ворот храма и отправились на пристань, куда в этот день стекались толпы народа. Им уже доводилось видеть диковинки, которыми заполнялись сокровищницы великого Тутмоса[28]. То были яркие ткани, золотые и серебряные сосуды тонкой работы, украшения из слоновой кости, окованные золотом и инкрустированные черным деревом колесницы, великолепное бронзовое оружие.
Хирам был равнодушен к драгоценностям, но сегодня в числе царских трофеев на берег были высажены люди, пленные азиаты; связанные друг с другом длинной веревкой, они вереницей спускались по сходням. Руки некоторых из них были скованы кандалами.
Хирам с отвращением смотрел на тяжелые черные космы, падавшие на плечи варваров, на их яркие шерстяные одежды. Здесь были и женщины; иные несли привязанных к спине детей. Их лица были очень смуглыми, а резкие, грубые голоса напоминали карканье ворон. Стоявшие на пристани египтяне умирали со смеху, наблюдая за неуклюжими телодвижениями связанных азиатов и слыша их странную речь.
Хираму было неловко смеяться – юноша не привык потешаться над страданиями людей, но он не мог заставить себя сочувствовать пленным, которые казались ему грубыми дикарями.
Внезапно юноша столкнулся взглядом с одним из варваров, молодым мужчиной, и был поражен пронзительностью и силой взгляда его черных глаз. Азиат шел тяжелой походкой; он был ранен, повязка на его груди окрасилась кровью, и в пыль капали густые темные капли. Неожиданно к пленнику подбежала девушка, вцепилась в его руку и о чем-то быстро заговорила, заглядывая ему в глаза. Он что-то ответил, стараясь держаться спокойно, хотя в его взоре затаилась мука. Девушка отчаянно замотала головой; она продолжала идти рядом с мужчиной и не отпускала его руки. В это время к ней приблизились египетские воины и принялись оттаскивать ее от пленника. Девушка сопротивлялась, изворачивалась, выскальзывала из их рук, словно змея, а потом укусила одного из воинов. Тот резко отшвырнул ее, и она упала на землю.
В следующий миг молодой азиат поднял скованные руки и обрушил кулаки на голову обидчика. Тот свалился, оглушенный ударом, в который варвар вложил последние силы, а товарищи воина принялись избивать пленника. Девушка наскакивала на воинов фараона, царапалась и кусалась, вызывая шумный восторг толпы, привлеченной неожиданным зрелищем. Азиата поволокли по пристани, а один из солдат принялся ловить руки девушки, пытаясь связать их веревкой, однако пленница не давалась: резко рванувшись, она бросилась бежать, да так быстро, словно ее подгонял ветер Сета. Нырнула в невольно расступившуюся толпу и исчезла.
Воин махнул рукой. Беглянку наверняка поймают и приведут обратно, а уж тогда солдаты великого фараона вдоволь натешатся ею!
Хирама била дрожь. Ему еще не приходилось видеть, чтобы женщина вела себя подобным образом, и он не знал, сочувствовать ей или осуждать ее. Прежде юноша полагал, что варварам неведомы иные чувства, кроме бездушной, примитивной жестокости. Недаром их мужчины так безжалостны и сильны, а женщины кажутся забитыми, темными существами. Однако сейчас перед ним предстало нечто иное. Эти люди, молодой азиат и девушка, явно переживали один за другого и были готовы облегчить участь друг друга любой ценой. Наверное, они были мужем и женой или женихом и невестой.
По дороге в храм Бакта оживленно обсуждал подробности разыгравшейся перед ними сцены, тогда как Хирам продолжал размышлять о случившемся. Будет скверно, если пленницу поймают, хотя наверняка так оно и случится. Возможно, беглянке повезет и ее из корысти приютит какой-нибудь торговец, хотя едва ли такая девушка согласится покориться кому бы то ни было!
Хирам вспоминал ее внешность. Была ли она красива? Едва ли! Смуглое лицо, большие темные глаза, черные кудри, напоминающие овечью шерсть, худое верткое, как у ящерицы, тело. И все же что-то в ней притягивало, влекло, как влечет неизвестность, манит ночь или край глубокого обрыва.
– Как ты думаешь, к какому народу принадлежат эти пленники? – спросил он Бакту.
– Похоже, сирийцы.
Думая об азиатской девушке, Хирам вспоминал кошек, этих загадочных священных тварей с их недоброй, презрительной красотой, удивительными золотыми глазами с черной прорезью зрачка, которыми они видели иной, недоступный людям мир.
Сам Хирам не знал и не хотел знать другого мира, кроме того, в котором жил, ибо именно здесь, в храме, он научился тому, что доступно немногим: жить в вечном настоящем, с радостью принимать и постигать то, что выпало на его долю.
Хираму, как молодому жрецу, поручали разные виды работ, а основную должность он мог получить лишь через пять-шесть лет службы в храме. Юноша был очень рад, когда его отправляли в Дом Жизни; охотнее всего он сделался бы кхерхебом[29], потому что обожал проводить время над свитками.
С того момента как юноша научился писать, тростниковая палочка стала его тайным оружием, с помощью которого можно было победить и одиночество, и неуверенность, и страх.
Хирам не стыдился своего крестьянского происхождения и никогда его не скрывал. Он родился в небольшой деревушке, каких полным-полно на берегах священного Нила. Когда Хираму исполнилось четыре года, его отец стал подрабатывать, возделывая поле и ухаживая за огородом пожилого писца, и иной раз брал сына с собой. Однажды оставленный без присмотра мальчик пробрался в дом хозяина и с детской непосредственностью принялся наблюдать за его работой. Писец из любопытства показал ребенку некоторые знаки и был поражен тем, что при следующей встрече Хирам воспроизвел их без единой ошибки. Пальцы крестьянского сына сжимали тростниковую палочку с такой уверенностью, словно он родился с пером в руке. Заинтересованный Ани принялся обучать мальчика. Писец был вдов, и жена не оставила ему детей. Ани часто наказывал, ругал и даже бил Хирама, но мальчик был благодарен писцу за то, что тот научил его всему, что умел и знал сам.
Когда Хираму исполнилось шесть лет, Ани посоветовал его отцу отвезти ребенка в храм. Стать писцом было сложно, здесь требовались деньги и связи, а вот жрецы зачастую брали учеников, повинуясь «голосу бога». Ближайшим крупным городом были Фивы, а самым знаменитым храмом – храм Амона.
Среди крестьян человек, умеющий читать и писать, способный зарабатывать на жизнь своим умом, – это маленький царь, существо, перед которым открыты все двери. Отец Хирама согласился не раздумывая. Он принялся копить деньги на поездку и через два года сумел проделать путешествие, на какое не решился ни один из его предков.
Фивы ошеломили мальчика многолюдьем и суетой, подавили громадами построек, удручили пылью и духотой. Они с отцом прождали во дворе храма не меньше шести часов, страдая от жары и жажды, пока наконец не были допущены к одному из жрецов. Хирам навсегда запомнил, как вошел в огромный зал с множеством колонн, на роспись каждой из которых, наверное, была израсходована сотня ведер краски, и увидел изображение бога и его священной ладьи.
То была немеркнущая красота, то был высший мир, о существовании которого Хирам не догадывался, мир, находящийся вне жизни и смерти, олицетворяющий счастье, какое не дано познать простым смертным.
Мальчик пронзительно закричал и упал без чувств. Его попытались поднять; он был неподвижен и холоден. Отец Хирама принялся плакать и заламывать руки; он не понимал, что могло произойти с сыном. Жрецы перенесли ребенка в одно из храмовых помещений и позвали лекаря. Тот развел руками и прописал обычные снадобья, а также молитвы. Хирам пролежал без сознания трое суток, потом у него началась горячка, которая продолжалась шесть дней. На седьмой мальчик очнулся и произнес одно-единственное слово: «Амон». И с тех пор стал выздоравливать.
Возможно, виной всему были солнечный удар и те впечатления, коих не выдержала хрупкая детская душа, но жрецы решили иначе. Они позволили отцу Хирама оставить ребенка в храме, причем без какой-либо платы за обучение, и обещали сделать из него достойного служителя великого бога.
Мальчику пришлось научиться правильно заботиться о чистоте тела, совершая омовения по четыре раза в сутки, изучить множество церемоний, связанных с почитанием бога, понять устройство государственной власти – сложной, многоступенчатой пирамиды подчинения одних людей другим. Со временем яркость первых ошеломляющих впечатлений поблекла, возбуждение, вызванное новизной, улеглось и появилось желание разглядеть за внешним нечто глубоко скрытое, то, что не всегда оказывалось красивым и пристойным.

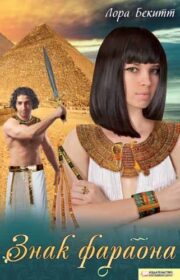
"Знак фараона (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Знак фараона (сборник)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Знак фараона (сборник)" друзьям в соцсетях.