— Насколько я знаю профессора Вильчура и как я могу судить, то, мне кажется, было бы лучше… если бы вы поехали к нему. Если вам
удастся его расчувствовать, если вы сможете выпросить у него прощение… возможно, он согласится. Разумеется, уверенности здесь быть не может…
Пани Нина вскочила с места:
— Достаточно ли для этого времени? Успею ли я доехать туда и вернуться с ним? Не будет ли слишком поздно?
Он развел руками.
— Здесь никто поручиться не может.
— Да, да, — лихорадочно засуетилась она. — Нельзя ждать ни минуты. Я не буду ничего брать с собой, поеду как стою. Мне все равно. Только узнайте, пожалуйста, когда ближайший поезд.
— Я думаю, что вам лучше воспользоваться самолетом. Вы долетите до Вильно, а в Вильно можно по телефону из Варшавы заказать машину и прямо с аэродрома поехать в Радолишки. Это будет значительно быстрее, чем поездом. Дорога в обе стороны займет немногим более полутора суток, а точнее, тридцать восемь часов, включая два часа пребывания на месте.
— Вы так добры, — удивилась она, — вы все проверили и сосчитали!
Кольский ничего не ответил. Он подсчитывал это уже для себя много раз, столько, сколько раз он ждал, что Люция позволит ему приехать хотя бы на несколько дней.
Пани Нину уже не удивляло, что он знал время вылета и прибытия в Вильно и то, как можно заказать в Вильно машину.
— Как хорошо, что вы все знаете! Сама бы я с этим всем не справилась. Я совершенно без сил.
И вдруг она схватила его за руку.
— Пан Янек! Пан Янек! Поедем со мной!
Кольский слегка побледнел.
— Это невозможно, — ответил он, — я не могу сейчас уехать.
— Почему?
— Клиника перегружена, коллеги не справляются. Нет, не могу.
— А какое мне дело до клиники! — возмутилась пани Нина. — Я сейчас же договорюсь с Ранцевичем, и вы будете свободны.
Лицо Кольского скривилось.
— Не в докторе Ранцевиче тут дело и не в освобождении, мне просто неудобно заставлять коллег выполнять мою работу только по той причине, что мне хочется прогуляться на границу.
Она посмотрела на него с упреком.
— Вы называете прогулкой поездку по спасению своего умирающего шефа?
Кольский молча опустил голову. На самом же деле он не хотел сопровождать пани Нину совершенно из других соображений. Он знал, как не терпела ее Люция, и допускал, что Люция по его письмам могла подозревать о его близкой связи с Добранецкой. Если бы он появился там вместе с ней, то тем самым подтвердил бы правильность предположений. И более того, по отношению к Люции и Вильчуру он бы выступил союзником Добранецких, а этого ему не хотелось. Уже и то, что он подписался под телеграммой к Люции, было с его стороны достаточной жертвой. Он сразу понял это по сухой, деловой и безличной телеграмме Люции. Для него она не добавила ни единого слова.
Вас может сопровождать секретарь профессора, — сказал он.
Она отрицательно покачала головой.
— Нет, нет! Должны ехать вы. Здесь не в сопровождении дело.
— А в чем же?
— Вы в хороших отношениях с ними. Ваши уговоры будут результативнее моих.
— Я не убежден в этом.
— Но ведь нельзя пренебречь ничем, что могло бы склонить Вильчура на проведение операции. Вы должны ехать. Вы ничем не обязаны мне, и я не поэтому вас прошу, ведь не обо мне идет речь, а о моем муже.
Он понял, что больше не может сопротивляться.
— В таком случае через полчаса мы должны быть в аэропорту. Оттуда пошлем телеграмму.
— Спасибо вам! — она протянула руку, а в глазах ее снова появились слезы.
Не прошло и часа после разговора, как они уже сидели в самолете, который, легко оторвавшись от земли, взял курс на Вильно. День был осенний. Над аэропортом низко висели черные тучи. Сыпал мелкий, но густой дождь. Самолет, убрав шасси и поднимаясь все выше, исчез за тучами. В салоне воцарился полумрак. Однако спустя несколько минут все озарилось ярким светом. В необыкновенно чистой голубизне они увидели над собой солнце, а внизу — застывшее море белоснежных волнистых пригорков и курганов, безбрежное море, на котором единственным темным пятном была их собственная тень, тень самолета.
В этот день в больнице на мельнице гостей не ждали. Пациентов тоже было мало, так как с утра лил такой густой дождь, что даже Емел не решился на свою обычную вылазку в городок.
Ходил он хмурый и что-то бормотал себе под нос, проклиная все на свете. Никто не пытался его отвлечь. Донка должна была обслуживать больных, Люция была занята своими мыслями, а Вильчуру вовсе не хотелось разговаривать: он сидел в своей комнате и читал.
Сразу же после ужина, сославшись на усталость, Вильчур ушел отдыхать. Его примеру последовал и Емел. Люция еще заглянула к больным, привела все в порядок в амбулатории и взялась за переписывание счетов, предварительно закрыв входную дверь. В это время, как правило, никто не обращался в больницу.
Скоро она отложила перо и задумалась. Подавленность Вильчура не могла ускользнуть от ее внимания. Правда, сегодня никто здесь не отличался веселым настроением, но в таком состоянии профессор бывал редко. Она видела его таким только в Варшаве. Опять его мучили какие-то тяжкие воспоминания. Вряд ли они вызваны вчерашней телеграммой. Интуиция подсказывала Люции, что скорее всего это результат бала в Ковалеве.
Для нее, несмотря на неприятный разговор с паном Юрковским, этот бал всегда будет милым воспоминанием.
Но она понимала, что Вильчур думает о нем совсем иначе. Когда она танцевала, то явно чувствовала его неодобрение. Нет, не порицание, но все же недовольство. Может быть, она поступила плохо, что танцевала? Может быть, ей вообще не нужно было уговаривать его поехать на этот бал?..
И все-таки она не могла себя упрекать в этом. У нее так мало удовольствий, она настолько отказалась от всех развлечений, что имеет право рассчитывать на его понимание, если раз, один только раз за многие месяцы захотела развлечься.
Эти размышления наполнили ее какой-то невыразимой грустью. Она встала, решив отложить счета до завтра, и начала складывать бумаги в стол.
Как раз в эту минуту в окно ударил яркий сноп электрического света. Со стороны мельницы приближалась машина.
— Что это может быть? — удивилась Люция.
Сквозь шум дождя явно прослушивался звук мотора. Машина остановилась возле крыльца, и скоро послышался стук в дверь. В сенях было темно. Люция взяла из амбулатории лампу и, держа ее в руке, открыла дверь.
Вначале она не узнала Добранецкую и спросила:
— Вы привезли больного?
— Я, наверное, очень изменилась, — ответила прибывшая. — Я Добранецкая.
Люция отступила назад. Кровь бросилась ей в лицо. Но в ту же секунду она увидела за спиной Добранецкой Кольского. Люция взяла себя в руки.
— Прошу вас, входите.
Она поставила лампу на стол и застыла рядом, сжав губы. Появление здесь этой женщины было просто цинизмом и подняло в Люции с прежней силой волну ненависти.
Пани Нина приблизилась к ней и протянула руку.
— Вы не поздороваетесь со мной? — с покорностью спросила она.
После минутного колебания Люция подала ей кончики пальцев, выразив этим движением все свое презрение. Почти так же безразлично она подала руку Кольскому. Боясь разбудить профессора, она провела их в амбулаторию и, закрыв дверь, спросила:
— Разве вы не получили телеграмму?
— Мы получили, но… — начала Добранецкая.
— Жаль вашего времени, которое вы потратили на дорогу. Я могу вам повторить только то, что было в телеграмме.
— На месте ли профессор Вильчур? Самое позднее, через два часа мы должны выехать, чтобы успеть на самолет.
Люция пожала плечами.
— Не задерживаю, тем более, что вы не сможете увидеть профессора Вильчура. Уже поздняя ночь. Профессор спит после трудового дня, и я не стану его будить.
Добранецкая вся дрожала.
— Я умоляю вас, умоляю. На карту поставлена жизнь моего мужа.
Глаза Люции сузились.
— А тогда, когда вам не нужен был Вильчур, вы и ваш муж смогли найти для него хоть искру человеческого участия? По какому праву, с каким лицом вы приходите сюда к человеку, которого обидели, у которого вырвали все и едва не убили морально! Да, это вы и ваш муж были источником всей клеветы, которой опутали профессора. И сейчас вы молите о помощи?! О! Я знаю, хорошо знаю, чего вы стоите, и профессор Вильчур тоже знает. И если я удивляюсь чему-нибудь, так только тому, что слишком поздно вас настигла заслуженная кара. Нужно полностью потерять чувство стыда, чтобы после всего, что произошло, появиться здесь, в доме профессора! Нужно быть не человеком, а зверем, чтобы после всего просить его о помощи!
— Пани Добранецкая сжимала ладонями виски и тихо повторяла:
— Боже… Боже… Боже…
Кольский стоял побледневший, опираясь о спинку стула, и молча смотрел в сверкающие ненавистью глаза Люции. Он не слышал, что она говорила, он вбирал в себя ее присутствие, упивался тем, что видит ее.
— Вы недостойны переступить порог этого дома. Каждое ваше прикосновение — это грязь и оскорбление. Напрасно вы сюда приехали, потому что мне неприятно видеть вас даже униженной. Вы не встретитесь с профессором!..
— Как жестоко вы мстите! — прошептала Добранецкая.
— Это судьба мстит вам. Судьба, а не я.
— Так почему вы не хотите позволить мне встретиться с профессором? Разве не месть диктует вам эту неуступчивость?
Люция смерила ее презрительным взглядом.
— Это не месть. Знаете ли вы, что вчера сказал профессор? Что он не отказал бы в помощи даже самому страшному преступнику.
— Так почему же он нам в ней отказывает?
— Потому что дать ее не может. Я не разбужу профессора и даже не расскажу ему о том, что вы были здесь. Не хочу нарушать его покой. Вам с вашей жадностью и завистью не понять того благородства, той безграничной доброты, той жертвенности, которыми полна душа оскорбленного вами человека. Ваш приезд сюда полностью характеризует вас. Вы, разумеется, не смогли поверить моей телеграмме. Вы считали, что это выдумка. Что, правда? Вы думали, что это вранье, что профессор Вильчур хотел таким образом дать понять, что не отказал бы в помощи, несмотря на причиненные вами обиды, если бы только мог? Как вы ошибаетесь! Я не обязана давать вам какие бы то ни было пояснения, но я скажу вам. Недавно левую руку профессора укусила бешеная собака, и с того времени, хотя проведено необходимое лечение, рука постоянно дрожит. Понимаете ли вы сейчас, что профессор действительно не может провести операцию?

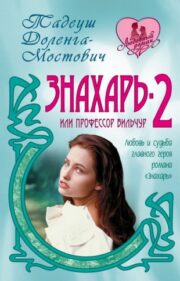
"Знахарь-2, или Профессор Вильчур" отзывы
Отзывы читателей о книге "Знахарь-2, или Профессор Вильчур". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Знахарь-2, или Профессор Вильчур" друзьям в соцсетях.