— Нина! — позвал Кольский.
— Чем могу служить?
Он чувствовал себя виноватым, пристыженным, скомпрометированным, осмеянным. Он был уверен, что она изменила ему. Но подобная уверенность с точки зрения рассудка являлась ничем иным, как истерикой. Тени фальшивых улик, потому что это были лишь тени, принял за достаточные доказательства ее вины. В своем воображении он создал теорию, не имеющую никаких реальных оснований, попросту высосал все из пальца. Унизил эту женщину, которая — он должен был себе признаться — сама снизошла до того, чтобы отдаться ему. Снизошла, хотя ее общественное положение, красота и культура предоставляли ей неограниченные возможности в выборе любовника. Ей следовало влепить ему пощечину за его подозрения, проигнорировать молчанием. Она проявила к нему снисхождение уже тем, что захотела объясниться, и сделала это так по-джентльменски, так изысканно и так болезненно, что это подействовало сильнее пощечины. Он вел себя как грубиян, как ревнивый сопляк.
— Нина! — начал он. — Я должен извиниться перед тобой. Я действительно поступил весьма опрометчиво и незаслуженно тебя оскорбил. Ты можешь меня простить?
Она иронически усмехнулась.
— О, не проси прощения преждевременно, потом можешь пожалеть. Проверь, не обманула ли я тебя. Проведи следствие, расспроси слуг, а может быть, я подкупила шофера и того ординарца. Найми детектива.
— Не издевайся надо мной, — сказал он покорно.
У Нины загорелись глаза.
— А действительно, найми детектива! С таким жалким ничтожеством, как я, следует поступать полицейскими методами. Я же твоя любовница не потому, что люблю тебя, а лишь потому, что для меня это одолжение и почет. Могла ли я мечтать о таком счастье? Я должна на коленях каждый день благодарить судьбу, иначе кому бы я была нужна?!
Он взял ее за руку и сказал умоляюще:
— Не насмехайся надо мной, Нина.
— Я не насмехаюсь над тобой, скорее над собой. Ну, разве это не смешно, что я пекусь о твоих чувствах в то время, как ты не щадишь мои? Знаешь, Янек, больнее всего мне стало оттого, что ты обвиняешь меня в трусости и малодушии. Подумай, что могло бы мне помешать прийти к тебе и открыто сказать: "С меня хватит, я люблю другого!.."
— Да, да, да, Нина, — согласился он, покрывая поцелуями ее руку. — Извини, извини меня. Я был глуп. Сможешь ли ты меня простить?
В ее глазах появилась грусть.
— Не смогу не простить, — сказала она едва слышно. — Только я не знаю, когда я смогу с тобой встретиться. Сам понимаешь.
— Понимаю, — согласился он.
— Я должна разобраться в себе. Не звони мне и не пиши до тех пор, пока я сама не отзовусь…
Она едва коснулась губами его щеки и вышла.
В первый день Кольский никак не мог освободиться от мысли о том, что он натворил из-за своей глупой ревности и больного воображения. На следующий день его настроение улучшилось. Он был счастлив, что все хорошо закончилось. На третий день утром, пересекая площадь Наполеона, у самой почты он встретил ротмистра Корсака.
Кольский остановился как вкопанный, точно кто-то внезапно ударил его по темени. Остановился и ротмистр. Одет он был в штатское. На нем был серый спортивный костюм и спортивная шапочка, через руку переброшен плащ, а в руке он держал небольшой несессер.
Корсак радушно протянул Кольскому руку.
— Приветствую, доктор. Что слышно в Варшаве? Ну и жара!
— А вы, пан ротмистр, не на маневрах? — выдавил из себя Кольский.
Корсак предостерегающе поднес палец к губам.
— Тсс! Это большая тайна! Я вырвался на короткое время в Варшаву.
Кольский уже овладел собой и почти непринужденно рассмеялся.
— Вот уж действительно шерше ля фам? — вопросительно бросил он.
— Вы весьма догадливы, доктор, — ротмистр прищурил глаз. — Ну, я вынужден попрощаться. В вагоне была такая пыль, что я чувствую себя как дворняжка, вывалявшаяся в песке. Я должен помыться…
— Так вы прямо с вокзала? — поинтересовался с недоверием Кольский.
— Да, — подтвердил Корсак. — Привет!
Он небрежно приложил руку к козырьку спортивной шапочки и исчез в толпе. После минутных раздумий Кольский сел в такси и поехал на вокзал, где просмотрел расписание поездов. Действительно, ротмистр мог говорить правду. Пятнадцать минут назад пришел поезд из Львова. Сейчас он уже ничего не понимал.
Вечером ему очень хотелось позвонить Нине. Однако вместо этого позвонил на квартиру Корсака, чтобы проверить, дома ли он. Разумеется, если его нет дома, значит, он у Нины. Каково же было удивление Кольского, когда он услышал от ординарца:
— Пана ротмистра Корсака нет в Варшаве. Он на маневрах. Вернется через месяц.
Одно из двух: или ротмистр остановился в гостинице, или, скрывая свое пребывание в Варшаве, приказал ординарцу отвечать, что его нет. Так или иначе это следовало выяснить: Кольский не мог больше оставаться в неведении. Он быстро оделся и вышел из дому. Спустя пять минут был уже на Фраскатти и позвонил в дверь.
— Дома ли пани? — спросил он.
Дверь открыл слуга.
— Нет, пан доктор, но она должна скоро приехать; может быть, вы подождете? Здесь уже ждет пан Хове.
— Кто это? — удивился Кольский, не слышавший ранее такой фамилии.
— Мистер Хове, тот англичанин.
Действительно, в холле сидел весьма интересный, очень бледный молодой человек со скучающим выражением лица, с моноклем в левом глазу. Увидев Кольского, он встал, медленно поправил монокль, еще медленнее протянул руку и назвал свою фамилию.
— Что это за обезьяна? — подумал Кольский и отметил, что молодой человек был в смокинге.
— Сегодня страшная жара, — обратился к нему вежливо Кольский.
Мистер Хове ответил, скривив один угол рта, что могло даже напомнить улыбку:
— I dоnt understand. I аm sorry… (Не понимаю. Извините… (англ.)).
Оказалось, что он ни слова не понимает ни по-польски, ни по-французски. Поскольку немецкий язык они оба знали плохо, разговор, который они вели почти полчаса, никто не смог бы назвать ни оживленным, ни интересным, тем более что им абсолютно нечего было сказать друг другу. Однако Кольский узнал, что англичанин развлекается в Варшаве уже месяц и что его возвращение зависит от определенных дел, по которым он сюда прибыл. Узнал Кольский и то, что в Варшаве мистер Хове не знает никого, кроме пани Добранецкой, с которой имел честь познакомиться во Французской Ривьере. Настоящим облегчением для обоих был звонок, возвещающий о возвращении хозяйки дома.
Присутствие Кольского, видимо, не было неожиданностью для Нины. Во всяком случае она не выразила ни малейшего удивления. Она была в таком прекрасном настроении, в каком ее Кольский не видел уже давно, при этом выглядела, по крайней мере, лет на пять моложе. После короткого приветствия и обмена несколькими английскими фразами со скучающим молодым человеком она мимоходом обратилась к Кольскому:
— Я надеюсь, вы здесь не скучали?
— Я не знаю английского, — проворчал Кольский.
— Ах, как жаль. Извините меня, я должна переодеться.
Еще одна фраза по-английски, обращенная вместе с милой улыбкой к мистеру Джимми, и она исчезла в глубине дома, а мужчины проводили ее восхищенными взглядами.
Минут через пятнадцать Нина появилась в великолепном вечернем туалете, и одновременно открылись двери в столовую. На столе стояло четыре прибора. Когда они сели, пани Нина вроде бы нехотя сказала по-польски:
— Твои подозрения, о чудо, реализуются. Возможно, ты провидец. Как раз сегодня приехал ротмистр Корсак. Он звонил, и я пригласила его на ужин. Я звонила и тебе, хотя и не предполагала, что ты захочешь составить нам компанию. Поскольку тебя не застала, обратилась за помощью к мистеру Хове.
Сказав это, Нина подвинула англичанину салатник и стала говорить по-английски. Кольский не мог отказаться от мысли, что она слово в слово повторяет то же самое этому бледнолицему олуху, бессовестно пользуясь тем, что они не могут объясниться.
Но, если даже так и было, пани Нина недолго могла тешиться своей игрой, так как появился Корсак, который прекрасно владел как английским, так и польским языком. Корсак пришел в той же спортивной одежде, в какой был утром на площади Наполеона. Он извинился за свой вид и, обмениваясь с Ниной остротами, ел с волчьим аппетитом. Он, казалось, был в прекрасном настроении, но очень скоро Кольский заметил, что ротмистр с откровенной неприязнью посматривает на англичанина. Он обращался к нему очень редко, на вопросы отвечал кратко и неохотно, с выражением безразличия на лице. В какой-то момент, когда мистер Хове был занят разговором с Ниной, ротмистр проворчал, обращаясь к сидящему рядом Кольскому:
— Откуда здесь взялся этот английский дохляк?
Кольский незаметно пожал плечами.
— Понятия не имею. Впервые его вижу.
Всегда бдительная, пани Нина услышала и объяснила:
— Мистер Хове знакомится с Польшей. Он очень милый, хотя несколько манерный, молодой человек.
Корсак слегка нахмурил брови.
— Конечно, чувствуются манеры в той бесцеремонности, с какой он ластится к вам.
— Ах, что за выражение, ротмистр! — И добавила по-английски:
— Ротмистр находит, что в вашем кокетстве много бесцеремонности.
— Это правда, — признался англичанин. — Бесцеремонность — это моя маска. Если бы я хотел довести свое кокетство до уровня обожания, которое я питаю к пани, то стал бы смешным для окружения в результате чрезмерного усердия и раболепия.
Кольский ничего не понял. Хотя он не думал, чтобы в словах англичанина было какое-нибудь сенсационное сообщение, но то, как этот младенец посматривал на Нину, могло возбуждать серьезные опасения. Так смотреть на женщину имеет право только человек, которого с ней связывают самые близкие узы и который с ней запанибрата.

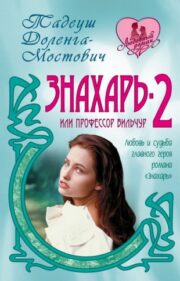
"Знахарь-2, или Профессор Вильчур" отзывы
Отзывы читателей о книге "Знахарь-2, или Профессор Вильчур". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Знахарь-2, или Профессор Вильчур" друзьям в соцсетях.