— До свидания, панна Люция, я вам очень благодарен, — сказал Вильчур и поцеловал ей
руку.
Ей снова хотелось прижаться к нему, но это показалось ей неловким. Направляясь в сторону Радолишек, она думала:
— Ну, наконец, наконец…
Она была такой возбужденной, что это не ускользнуло от внимания пани Шкопковой, которая, подавая Люции кислое молоко и картофель, заметила:
— Что-то у вас сегодня приятное случилось: вы такая веселая.
Люция рассмеялась.
— Вы угадали: сегодня, действительно, произошло приятное событие.
Пани Шкопкова не была бы женщиной, если бы ей не пришла в голову мысль, что тут замешан мужчина. Пользуясь дружескими отношениями со своей жилицей, она сказала:
— Я себе ломаю голову, кого могла пани доктор высмотреть здесь в нашей околице, здесь же нет никого подходящего.
Люция громко рассмеялась.
— Я, однако, нашла.
Задумавшись, пани Шкопкова прищурила один глаз.
— Я думаю, что это не молодой Чарковский? Он же еще ребенок.
— Нет-нет…
— И не брат ксендза? Человек он, конечно, порядочный, но он не для вас. А может, барин из Ковалева?
Люция покачала головой, не переставая смеяться.
— Ну, я уже и правда не знаю кто, — с нескрываемой озабоченностью в голосе сказала пани Шкопкова, — действительно, я не знаю кто. Никого тут такого нет. Может, это кто-то из дальних?
— Нет, это кто-то проживающий близко.
— Ну, не догадаюсь, — сдалась пани Шкопкова. — Люди здесь, когда видели вас с этим молодым Чарковским, что-то там говорили. Другие вспоминали, что барин из Вицкун хочет жениться на вас, но это закоренелый старый холостяк, поэтому я не верила. Не верила я и тогда, когда пани Янковская рассказывала, что пани доктор за профессора Вильчура собирается. Я ей сказала: " Милая моя, что это вы за глупости говорите, он же старый, в гроб ему скоро, а не жениться". То же самое и с братом ксендза. Не подходит он вам: необразованный и что это за мужчина, который сидит на чужой шее, а сам ничего не делает.
Люция ничего не ответила. Закончив ужин, она встала, тем самым давая понять пани Шкопковой, что у нее нет времени для продолжения разговора.
В сущности, упоминание этой женщины о Вильчуре причинило ей боль. Неужели люди считают его таким старым?.. Его, такого энергичного, неутомимого в работе, такого молодого душой да и крепкого телом…
Несколько дней после состоявшегося разговора она не могла прийти в себя. Избавилась от неприятного впечатления только после поездки в город. В конце концов, было бы смешно принимать во внимание чье-то мнение по этому вопросу, а тем более людей простых, мыслящих самыми примитивными категориями.
По возвращении получила письмо от Кольского, в котором он сообщал, что все, о чем просила его Люция, он уже закупил и выслал почтой. О себе писал коротко: работает очень много, зарабатывает все больше. В больнице у него сложились хорошие отношения, так как его поддерживает доктор Ранцевич, который в настоящее время является заместителем профессора Добранецкого. Добранецкий сейчас бывает в клинике реже: жалуется на недомогание, головные боли. По совету Ранцевича был даже созван консилиум, который ничего существенного не выявил и дал заключение, что причиной недомоганий может быть желудок и общее истощение. Вероятно, днями Добранецкий уедет в Мариенбад, чтобы пройти там курс лечения. На время его отсутствия руководство клиникой примет на себя Ранцевич, а место Ранцевича займет Кольский.
"Поэтому, — писал дальше Кольский, — я не прошу вас на этот раз разрешить мне приехать в Радолишки: не отпустят меня даже на один день. Мучит меня несносная тоска. В вашей прежней квартире поселилась какая-то молодая пара. Я часто прохожу мимо. В окнах всегда много цветов. Они, наверное, счастливы. Думая о вас, я прихожу к глубокому убеждению, что вы правы: счастье заключается в возможности отдать любимому человеку все, что у тебя есть. Раньше я не понимал этого; вероятно, нужно страдать, для того чтобы научиться чему-нибудь. В последнем письме вы ни словом не обмолвились о своих личных планах. Вы понимаете, о чем я говорю. Как бы мне хотелось иметь вашу фотографию, увидеть, как вы сейчас выглядите. Я надеюсь, что это выполнимая просьба, и вы не откажете мне".
В конце, как всегда, были традиционные пожелания профессору Вильчуру, пожелания, которым Люция, передавая их Вильчуру, вынуждена была придать вымышленную сердечность.
На этот раз Кольскому пришлось ждать ответа Люции дольше, чем обычно. Во-первых, фотографии у местного фотографа нужно было ждать долго; во-вторых, Люция больше, чем когда-либо, была занята оборудованием больницы. При этом обнаружилась еще необходимость соблюдения различного рода формальностей в связи с открытием учреждения. Ей даже пришлось поехать к старосте почти за сорок километров.
Для сельской местности больница выглядела очень хорошо. С крыльца входили в просторные сени, которые выполняли роль приемной. Налево располагались две большие комнаты: одна была оборудована под палату с четырьмя кроватями, вторая — под амбулаторию, а за перегородкой была операционная. Направо находились три меньшие комнаты. Одна отдельная предназначалась для аптеки и склада трав. Здесь было место и для Емела. Две другие должны были занять Вильчур и Люция. Разумеется, ни профессор, ни она не говорили об этом между собой. Однако в ходе строительства, когда пан Куркович спросил профессора, соединять ли комнаты дверью, Вильчур ответил:
— Я думаю, что нужно. Если не потребуется, ее всегда можно закрыть.
На самом деле у него не было большого желания переезжать в больницу. Он охотнее остался бы в старой пристройке, к которой уже так привык. Но оставаться там он все равно уже бы не смог, так как после Рождества должна была состояться свадьба Василя, и можно было догадываться, что молодая пара обоснуется именно в пристройке, хотя никто об этом Вильчуру и словом не обмолвился.
Спустя неделю после жатвы, в воскресенье, состоялось освящение больницы и одновременно ее открытие. Собрались толпы людей из окрестных деревень, из дальних мест приехал даже районный лекарь, который хотел познакомиться с профессором Вильчуром. Доктор Павлицкий, несмотря на полученное приглашение, демонстративно отсутствовал. Освятил больницу ксендз из Радолишек, Грабек, который произнес красивую речь. Ксендз поблагодарил Вильчура за то, что он решил поселиться в этих краях и работать для местного люда, а также подчеркнул заслуги этого люда, который, выстроив больницу, подал прекрасный пример другим. Затем Вильчур сказал несколько сердечных слов, и церемония закончилась. Люди, однако, долго не разъезжались, внимательно все осматривали, интересуясь подробностями и похваливая солидное строительство.
Собственно, новая больница очень походила на те сельские больницы, которых на Западе сотни и тысячи. Она отличалась от них лишь тем, что здесь в сенях стоял сундук, в который пациенты могли, если хотели и если у них было что, складывать привезенный гонорар в виде масла, или яиц, или куска сала, а кто и мешка зерна. Эти запасы предназначались для питания лежачих больных, оставленных в больнице, а также для содержания больницы. Рядом с сундуком стояла жестяная коробка для денежных пожертвований, хотя такие пожертвования делались очень редко.
Уже на следующий день после открытия больницы стало ясно, как в ней нуждались люди. Из Нескупы привезли девушку, которая напоролась на вилы и была при смерти. Под вечер из Вицкун был доставлен работник с раздробленной ногой: попал в молотилку. Этот пациент отличался от других тем, что хозяин имения обещал оплатить его лечение. По существу, больница должна была обслуживать исключительно людей бедных, окрестных мужиков, которые собственными руками или с помощью своих близких участвовали в ее строительстве.
Профессор и Емел переехали в больницу только в четверг, а еще через день привезли из Радолишек вещи Люции. Поскольку молва об открытии больницы широко разошлась, то наплыв пациентов тоже увеличивался, и профессор с благодарностью принял предложение Донки помогать при перевязках больных.
Работа в больнице вошла в свое русло. С раннего утра приезжали пациенты. У Вильчура и Люции почти не оставалось времени, чтобы поговорить на протяжении дня, зато вечера они всегда проводили вместе, отправляясь на длительные прогулки. Иногда их сопровождал Емел, хотя чаще он предпочитал просиживать в корчме в Радолишках. Свои функции в больнице он рассматривал со свойственной ему бесцеремонностью. Зачастую отсутствовал тогда, когда бывал нужен, или с крыльца произносил речи, обращаясь к мужикам с иноязычными фразами.
— Удивительно, — говорила Люция, — я никогда еще не видела этого человека трезвым, но в то же время я не видела его и пьяным. Создается впечатление, что он совершенно осознанно поддерживает состояние алкогольного возбуждения.
— Да, — подтвердил Вильчур. — Это своего рода попытка уйти от действительности, осознанное желание деформировать представление об окружающем мире. Несомненно, что в основе этого лежит какая-то трагедия, которую этот несчастный человек должен был пережить. Вы не припомните ничего из времени пребывания в Сандомеже, что могло бы вывести на след его переживаний?
Люция отрицательно покачала головой.
— Я была тогда маленькой девочкой, а тете было уже за тридцать. Я не помню, чтобы в ее доме когда-нибудь упоминалась фамилия Емел.
— Фамилия, конечно, нет, хотя я и не знаю ее. Я думаю, что он умышленно скрывает свою настоящую фамилию, называя первую попавшуюся. Вы помните наш разговор в вагоне?
— Да, — кивнула головой Люция.
— Вы помните, какое впечатление на него произвела ваша фамилия? Никогда ни до, ни после я не видел его таким взволнованным, даже исчезла его циничная усмешка, на какое-то время он отказался от пренебрежительно-иронической болтовни.

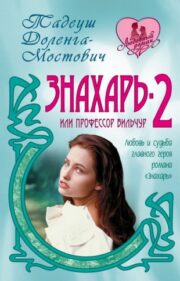
"Знахарь-2, или Профессор Вильчур" отзывы
Отзывы читателей о книге "Знахарь-2, или Профессор Вильчур". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Знахарь-2, или Профессор Вильчур" друзьям в соцсетях.