И действительно, вернувшись домой, Прокоп ничего не сказал ни Донке, ни кому-нибудь другому. Зато на следующее утро, после завтрака, когда все находились в избе, он достал из кармана толстый кошелек из коричневой кожи, вытащил из него две бумажки по сто злотых и, положив их перед Донкой, сказал:
— Возьми вот двести злотых. Тебе же надо какие-то там наряды перед свадьбой купить.
Услышав эти слова, все присутствовавшие замерли. Старая Агата стояла с широко открытым ртом, Ольга смотрела на отца как на сумасшедшего, лицо Василя расплывалось в улыбке, а Донка смертельно побледнела.
— Перед свадьбой? — ойкнула Зоня. — Перед какой свадьбой?
Прокоп не считал нужным объяснять и встал с лавки.
— Перед моей свадьбой, — не без гордости ответил Василь. — Я женюсь на Донке.
Благодарная, она бросилась к рукам Прокопа. По лицу ее текли слезы.
— Вот так штука! — удивленно сказал рыжий Виталис.
Прокоп, освобождаясь от благодарностей Донки, вышел из избы. И тогда все здесь загудело. Изба наполнилась криками и шумом. Каждому хотелось как можно быстрее узнать, как это все случилось. Василь с гордым выражением лица давал пояснения. Наталка дергала Донку за юбку, покрикивая:
— Чего плачешь, Донка? Вот глупая, чего плачешь?!
Ответ Донки утонул во всхлипываниях.
Глава 11
Строительство клиники быстро продвигалось. И неудивительно: рабочих рук хватало. Мало в округе было таких, кто не хотел бы хоть чем-нибудь помочь в строительстве. Слава об этом событии разнеслась слишком далеко. Даже газеты писали о нем, широко обсуждая объединение сельского населения.
К сбору урожая дом стоял уже под крышей, а сейчас спешили настелить полы и вставить окна, чтобы успеть до начала жатвы. Большинство занятых на строительстве были мужики, которые во время уборки урожая не могли позволить себе оторваться от своего хозяйства.
Тем временем изготовили мебель для больницы, и Люция поехала в город, чтобы купить некоторые инструменты. Не все, однако, можно было там достать, поэтому она написала доктору Кольскому и попросила его остальное купить в Варшаве и выслать наложенным платежом.
Кольскому она писала довольно часто. Ей нравились его письма. В них она чувствовала искреннюю грусть и тоску по ней. Почти в каждом письме он просил, чтобы она позволила ему приехать в Радолишки хотя бы на один день. Но она всегда отказывала ему, считая, что не имеет никакого смысла пробуждать в нем какие-то надежды, снова терзать его сердце. Ведь ничего, кроме дружбы и симпатии, она дать ему не могла, а дружба и симпатия находили достаточное выражение в письмах и не требовали личных встреч.
Особенно сейчас приезд Кольского был бы не только для нее, но и для него исключительно горьким, потому что в ее отношениях с профессором многое изменилось. Произошло это после того, как Прокоп объявил помолвку своего сына с дальней родственницей Донкой. Свадьба должна была состояться только после Рождества, но молодая влюбленная пара своей любовью как бы пропитывала весь воздух на мельнице, и все ее обитатели, вдыхая его, невольно ощущали это на себе. Эта атмосфера способствовала и тому, что в разговоре с Вильчуром Люция, наконец, услышала слова, которые она могла считать согласием с его стороны на брак.
Однажды вечером, как она делала это часто, Люция по дороге в городок зашла на старое кладбище, на могилу Беаты. Еще весной она привела могилу в порядок, посадила цветы. Сейчас нужно было время от времени пропалывать. Она любила сюда приходить. В тишине под шелест листьев высоких деревьев так хорошо было подумать о трагической судьбе этой женщины, о страшном, почти смертельном ударе, который она нанесла своему мужу и себе, о могуществе, об испепеляющем могуществе любви, которая одновременно является силой созидания, о собственных чувствах и, наконец, о том, что они могут дать, что принесут они ей самой и прежде всего ему.
Сможет ли она заглушить обиду, нанесенную той женщиной?.. Сможет ли она теплом и нежностью оживить в его сердце способность любить? Услышит ли она когда-нибудь слова: "Ты принесла мне счастье. Я с тобой счастлив больше, чем был с ней".
На все это искала Люция ответы, всматриваясь в черный крест над могилой. Она почти не думала о себе, о своем счастье. Она уже давно видела это счастье в служении ему, в заботе о его делах, о его покое, настроении… Она чувствовала в себе почти призвание, она взяла на себя почти миссию вознаградить этого человека с большим сердцем хотя бы за часть тех обид, которые ему достались. И это все, чего она хотела.
Когда, погруженная в свои мысли, Люция вырывала сорняки на могиле Беаты, она услышала за спиной шаги. Она оглянулась и увидела Вильчура.
С минуту он стоял молча и, наконец, сказал:
— Я догадывался, что это вы… Что это вы заботитесь об этой могиле.
— Никто за нею не смотрел, — ответила
она, как бы оправдываясь.
Ему показалось, что в ее голосе он услышал укор. Он с грустью усмехнулся.
— Для меня эта могила стала действительно… могилой.
Она, помолчав, ответила:
— В могилах зарыты воспоминания.
Он отрицательно покачал головой.
— Не для меня. Я не говорю именно об этой могиле, а вообще. Мои воспоминания почти никогда не связаны с кладбищем. А что же такое кладбище?.. Это свалка, куда ссыпают остатки, ненужные остатки людей, которые когда-то жили. Я так понимаю это, потому что я врач. Соприкасаясь столько лет с материей, я научился смотреть на нее как на футляр, в котором закрыт человек… Тело, только тело, механизм, наделенный способностью двигаться, питаться и выделять. Но это лишь механизм.
— Я тоже врач, — заметила Люция.
— Вот именно, поэтому вы должны смотреть на эти вещи так же, как я. Ответьте мне, пожалуйста, нужно ли благоговеть, например, перед пальцем или рукой, которую вы кому-нибудь ампутировали?
— Это совсем другое.
— Как это другое?
— Это просто части тела, к тому же больные.
— Не больные, а умершие. Если вы считаете, например, что мертвая рука не заслуживает уважения, то скажите мне, какую часть тела мы должны чтить?
— Вы шутите.
— Предположим, — продолжал Вильчур, — что бомба разорвала кого-нибудь на куски. Какому из них вы отдадите свое предпочтение?
Люция ужаснулась.
— Я не говорю о преклонении. Речь идет просто о связи воспоминаний об умершем близком человеке с определенным местом.
— Вот этим мы отличаемся, — запротестовал Вильчур. — Умерший никому не может быть близким. Умерший — это труп. Близким остается человек, но человек живой. Тогда зачем же связывать свои воспоминания, воспоминания о живом человеке с чем-то, что является антитезой жизни, с трупом?.. В моем воображении память о ком-то связана, скорее, с домом, в котором этот кто-то жил, с предметом, которым он пользовался, с фотографией, но только не с кладбищем.
— Однако… — заколебалась она, — однако вы сюда приходите.
— Прихожу, во-первых, потому, что я люблю это место, шум старых деревьев, тишину и покой, а во-вторых, потому, что оно связано с моей жизнью. Как вам известно, здесь ко мне вернулась память… Я бываю на этом кладбище довольно часто, но никогда никого не встречал. Иногда нужно уйти от людей, даже от самых близких и самых дорогих.
— Поэтому я весьма сожалею, что вы меня здесь встретили, я помешала вашему одиночеству, но я уже убегаю и оставляю вас одного.
— Ни за что на свете, — не согласился Вильчур, задерживая ее руку. — Я пойду с вами.
Сразу же за калиткой колыхались золотые нивы хлебов.
— Вы даже себе не представляете, как приятно мне ваше общество, — сказал он.
Она улыбнулась.
— Значит, вы не относите меня к самым дорогим и самым близким?
Он задумался и, глядя ей прямо в глаза, ответил:
— По правде говоря… вы единственное дорогое для меня и близкое существо на свете…
Слезы навернулись на глаза Люции, и она невольным движением обвила его шею руками.
Вильчур наклонился и нежно поцеловал ее в щеку. В следующую минуту, однако, решительным движением освободился от ее объятий и сказал:
— Пойдемте… Вы слышите, как пахнут хлеба?.. Какой замечательный вечер!.. Мне кажется, это оттого, что у меня в жизни было очень мало таких прекрасных минут. Конечно, и у меня бывали, но чаще по поводу чужих радостей…
Они шли узкой полевой дорогой, извивающейся среди хлебного поля, по краям окаймленного густо растущими васильками и плевелом. Здесь и там встречались пышные кисти ромашек.
— Я не философ, — говорил Вильчур, — да и времени у меня не было, чтобы задумываться над этими вопросами. Но как раз сейчас я задал себе вопрос: что же такое счастье, что следует называть счастьем? Я установил удивительную вещь. Вы знаете, панна Люция, наверное, нельзя дать точного определения счастья, потому что в каждом возрасте человек понимает счастье по-разному. Помню, когда я был еще в гимназии, я считал, что могу быть счастливым только тогда, когда стану путешественником, мореплавателем. Позднее студентом представлял свое счастье в борьбе за славу, затем к славе добавил еще и деньги, разумеется, для того, чтобы иметь возможность положить все это к ногам любимой девушки… Сколько эволюции, а точнее, какая постоянная эволюция!
— А как сейчас вы представляете себе счастье? — спросила Люция.
Он ответил не сразу.
— Сейчас, — улыбнулся он, — вот так я и представляю счастье: теплый и приятный вечер, хлебные поля и ваше доброе, любящее сердце, а там приветливые и добрые люди, нуждающиеся в нашей помощи, и спокойная жизнь без бурь, без потрясений, без неожиданностей. Да, именно так я понимаю счастье сегодня… И это, пожалуй, для меня его последняя редакция.
Так они дошли до тракта.

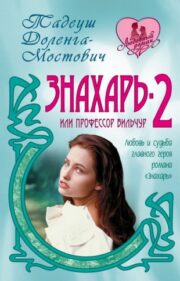
"Знахарь-2, или Профессор Вильчур" отзывы
Отзывы читателей о книге "Знахарь-2, или Профессор Вильчур". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Знахарь-2, или Профессор Вильчур" друзьям в соцсетях.