— Я люблю тебя, Георгина. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.
Георгина подняла на него глаза, чувствуя себя сильной, смелой, счастливой, и ответила:
— Я тоже этого хочу, Кендрик. Тоже хочу.
Вернувшись в «Монастырские ключи», они прокрались в дом через заднюю дверь, отлично сознавая, что всякий, кто сейчас бы их увидел, не мог не понять, где они были и чем занимались. Энджи и Малыш сидели наверху, у себя в комнате; казалось, кроме них, в доме никого больше не было. Кендрик исчез, а потом спустился, неся полотенца, джинсы и свитеры. «А это трусы, только, извини, они мужские»; они залезли вместе в душ, располагавшийся рядом с кладовкой, постояли под шумными струями воды, снова позанимались любовью — беззаботно, уже совершенно не думая о том, что кто-то может их увидеть; потом, когда они оделись, Кендрик сделал им обоим по большой кружке чая. Георгина сидела не шевелясь, молча смотрела на него, чувство любви переполняло ее, и она думала лишь о тех радостях и удовольствиях, которые были у них в прошлом, и о том огромном счастье, которое, как ей хотелось надеяться, ждало их в будущем.
Утром Малышу стало плохо; они собирались наутро поговорить с ним, рассказать ему о своих намерениях и планах, но Энджи сообщила им, что у Малыша воспаление легких и врач распорядился не беспокоить его. Выглядела она страшно усталой, и временами даже казалось, что она находится в каком-то полубессознательном состоянии;
Георгина заявила, что ей надо возвращаться в Хартест, посмотреть, как там Александр, и попросила Кендрика поехать с ней. Кендрик ответил, что предпочитает остаться в «Ключах», — возможно, отцу попозже станет лучше и он захочет с ним поговорить. Энджи ничего не сказала, но, кажется, была благодарна Кендрику за его решение.
Позднее в тот же день Малышу стало еще хуже, вызвали специалиста, он накачал его разными лекарствами, шла речь о том, что, возможно, придется поместить его в госпиталь. Голос Кендрика, когда он позвонил и сказал об этом Георгине, звучал расстроенно и мрачно; Георгина испугалась, даже почти рассердилась из-за того, что отпущенное Малышу счастье оказалось столь непродолжительным, столь скудным, что оно лишь подразнило его.
Но на следующее утро Малышу вроде бы стало лучше, к обеду он уже сидел на постели и на всех рычал; и тогда Георгина и Кендрик, которым отчаянно хотелось побыть вместе, бросили всех и всё и сбежали в Лондон, в дом на Итон-плейс, где и провели прекрасные двадцать четыре часа, почти не покидая за все это время спальню, после чего Кендрик улетел назад в Нью-Йорк, где ему предстояли выпускные экзамены.
Меньше чем через месяц он вернулся; тут-то и начался кошмар.
Он позвонил Георгине из Хитроу; она в этот момент была на кухне, помогая миссис Фоллон делать печенье. Александр был в Лондоне; впоследствии Георгина не раз возвращалась к мысли о том, что вся ее жизнь могла бы сложиться совершенно по-другому, если бы он в тот момент оказался дома.
— Из Хитроу? Но, Кендрик, ведь ты же в Нью-Йорке?
— Нет, Георгина, я не в Нью-Йорке. Я в Хитроу. Я тебе только что это сказал. Наверное, то, что ты провела этот месяц не со мной, отрицательно повлияло на твою сообразительность. Ты бы не могла вырваться сейчас из дому и приехать сюда?
— Разумеется, конечно, могла бы, я прямо сейчас выезжаю, но, я думаю, у меня все равно это займет почти два часа. Ой, Кендрик, как хорошо, как здорово! Мчусь и постараюсь быть как можно быстрее. Встречаемся в зале прилетов. Я люблю тебя.
— Я тебя тоже люблю.
Белый «гольф» Георгины всю дорогу до аэропорта держал ровно сто десять миль в час; она не думала ни о превышении скорости, ни о полиции, ни даже о собственной безопасности. Видимо, охранявшие ее ангелы трудились на совесть, хотя им и должно было выпадать по ее милости немало сверхурочной работы; однако до Хитроу она доехала меньше чем за полтора часа.
Кендрик ждал ее, прислонившись спиной к колонне в зале прилетов; на нем было длинное пальто из верблюжьей шерсти и фетровая шляпа с широкими и мягкими полями.
— Ты выглядишь совсем как Дик Трэйси, — проговорила Георгина, целуя его.
— Зато ты ни капельки не похожа на Запыхавшуюся Махони, — засмеялся Кендрик, отвечая на ее поцелуй. — А впрочем, блондинки мне никогда не нравились.
— Рада слышать, просто камень с души упал.
— А когда мы приедем домой, мы сможем сразу же забраться в постель?
— Абсолютно сразу же.
— Слава богу.
— Как твой папа? — спросил Кендрик.
Он лежал в ванне, и вид у него при этом был очень серьезный. Эта ванна, старомодная, чугунная, покрытая белой эмалью, стояла раньше в ванной комнате, что была при детской; но когда Няня там все обновляла, то поставила и новую ванну темно-зеленого цвета, которую называла «красавицей»; старую же, по просьбе Георгины, перенесли в ванную комнату при ее спальне.
— Ничего, — несколько неопределенно ответила Георгина. — Он сейчас в Лондоне, на несколько дней.
— Ему лучше? Должно быть, лучше, раз он в Лондоне.
— Да. Лучше. Но еще не совсем хорошо. Он еще не поправился. Психиатр говорит, что мы должны быть очень осторожны. Не сердить его, не позволять ему утомляться. Он сейчас такой занятный: голова у него работает, но как будто в замедленном темпе. Мне трудно тебе объяснить, но до него все очень долго доходит. Но уж когда дойдет, то все в порядке.
— Ну и хорошо.
— Дяде Малышу тоже не стало хуже, — продолжала она, — я его видела на той неделе. Он был в очень приподнятом настроении. Они вместе с Томми открыли для себя массу новых игр. Не знаю, что бы они делали друг без друга, просто не представляю себе. Не говори этого никому, особенно Шарлотте, но мне Томми довольно симпатичен. — Она сознавала, что нервничает, что нарочно болтает без остановки, стараясь оттянуть тот момент, когда Кендрик попробует заговорить с ней об их совместном будущем.
— Да, — согласился Кендрик, — мне он тоже довольно симпатичен. Насколько я его знаю и могу судить о нем.
— А твой отец знает, что ты здесь?
— Нет. Пока еще нет.
— Ты разве не собираешься сказать ему?
— Ну, — ответил Кендрик, — это зависит…
— Отчего?
— Сейчас скажу. И как тебе тут, нравится ухаживать за Александром?
— Скучно. Тоскливо. Но ты же знаешь, что я должна этим заниматься, — устало вздохнула она. — По крайней мере, сейчас.
— Это «сейчас» что-то очень долго тянется, тебе не кажется?
— Может быть, немного долго. Кендрик, в чем дело? И почему ты так внезапно приехал?
— Я приехал, чтобы увезти тебя. В свой волшебный замок. На свой перестроенный чердак в верхней части Вест-Сайда.
— Там шикарно?
— Шикарно. Огромные комнаты, окна больше, чем стены комнат, все белое, масса света и с видом на парк.
— Послушать тебя, так просто идеальное место.
— Не совсем идеальное, — ответил Кендрик.
— А что не так?
— Там нет тебя.
— А-а.
— Георгина, дорогая, я восхищен тем, как ты предана отцу, точнее, Александру, и сейчас мы об этом поговорим… не смотри на меня так, Георгина, пожалуйста…
— Кендрик, ты отлично знаешь, что для меня Александр и есть мой отец. Я его люблю, он безупречно относился ко мне на протяжении всей моей жизни, и я просто не хочу искать никого другого. Мне не нужен ни образцовый отец, вроде Чарльза Сейнт-Маллина, ни порочный, как Томми. Для меня Александр — папа, идеальный папа, и все. Я очень жалею, что тогда тебе об этом рассказала.
— Ну и хорошо. — Лицо Кендрика ясно выражало, что ничего хорошего во всем этом он не видит.
— Да, так что ты собирался сказать?
— Я хотел сказать, что, на мой взгляд, пришла моя очередь.
— Что ты имеешь в виду?
— Георгина, я люблю тебя, я сделал тебе предложение, ты ответила, что согласна, и мне кажется, что я ждал уже достаточно долго.
— Но, Кендрик, а как же дядя Малыш?
— Я очень много об этом думал, и я убежден: мы должны доставить ему удовольствие, должны сделать так, чтобы он увидел нашу свадьбу. И я хочу, чтобы ты переехала ко мне в Нью-Йорк. Я теперь буду там работать, ты тут не работаешь, и это все просто нелепо. Я вчера вечером думал обо всем, пришел к выводу, что это нелепо, сел утром в самолет, и вот я здесь. Приехал специально, чтобы все это тебе сказать. Я считаю, что нам нужно пожениться прямо здесь, как можно проще и как можно быстрее, а потом уехать в Нью-Йорк. Я знаю, что папа болен и все такое, но он явно не одобрил бы, чтобы мы болтались тут и ждали, пока он… В общем, вот что я думаю насчет всего этого.
Пораженно глядя на лежащего в ванне Кендрика, Георгина выслушала эту необыкновенно длинную для него речь и теперь сидела с отсутствующим видом.
— Понимаю, — только и произнесла она.
— Ну, это не очень страстный ответ. Я думал, что ты сразу бросишься готовить подвенечное платье, паковать чемоданы и все такое.
— Не может быть. — Бесстрастный голос вполне соответствовал выражению ее лица.
— Что ты хочешь сказать?
— Не может быть, чтобы ты так думал. Ты же должен понимать, что я не могу согласиться, не могу поехать.
— Георгина, что значит — ты не можешь поехать? Я этого совершенно не понимаю. В противном случае меня бы здесь не было.
— Ты же знаешь, что я должна ухаживать за папой. Должна.
— Георгина, послушай. Твой отец, в отличие от моего, совершенно здоровый и полноценный человек. Он может прожить еще двадцать лет. Вероятнее всего, и проживет. И ты что, все это время намерена быть при нем сиделкой?
— Разумеется, нет. Но у него было нервное расстройство, Кендрик, и произошло оно, по крайней мере отчасти, и по моей вине, и пока еще его состояние очень неопределенно. Здесь за ним ухаживать некому, за исключением только Няни и миссис Тэллоу. А кроме того, психиатр сказал, что мы не должны… давить на него. Заставлять его заниматься тем, чем он не хочет заниматься, видеть то, чего он не хочет видеть. Я не могу оставить его, не могу.

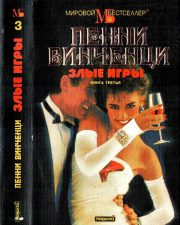
"Злые игры. Книга 3" отзывы
Отзывы читателей о книге "Злые игры. Книга 3". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Злые игры. Книга 3" друзьям в соцсетях.