— Красивое имя — Шарлотта, — осторожно вставила Энджи.
— Да, верно? — Вирджиния снова налила себе вина. Лицо у нее было бледное, напряженное. — Я сама его выбрала и настояла, чтобы девочку назвали именно так; они хотели дать ей имя Алисия, так зовут мать Александра, но уж этого я никак не могла допустить, и это единственное, в чем я сумела проявить твердость. И теперь ее зовут Шарлотта Элизабет: Элизабет в честь моей матери, а Шарлотта — потому, что это мое любимое имя.
— А ваша мать приезжала? — спросила Энджи, испытывая некоторую неловкость. Ее приводила в известное замешательство эта внезапно открывшаяся ей возможность увидеть душевные муки и страдания своего босса, у которой, как она привыкла считать раньше, все в жизни обстоит в высшей степени безмятежно и благополучно.
— Да, приезжала и прожила с нами два месяца. — Вирджиния вдруг рассмеялась. — Мне кажется, что, вопреки всему, она никогда в жизни не чувствовала себя счастливее, чем в эти два месяца. Она жуткий, ужасный сноб, и для нее было верхом райского блаженства оказаться в родовом английском имении, ежедневно общаться с настоящим английским лордом. Пусть даже рядом собственная чокнутая дочка.
— Но вам это не помогло?
— Нет, мне ничего не помогало. Приезжал психиатр, без конца беседовал со мной. Он говорил, что я нахожусь в шоке. Может быть, и так. Мне давали какие-то лекарства, но они тоже не помогали или, во всяком случае, не очень. Я бродила по дому и по имению, как зомби, и ни с кем не разговаривала.
— Не понимаю, почему же вы оказались в шоке.
— У меня были кошмарнейшие роды, — быстро ответила Вирджиния. — Настолько ужасающие, Энджи, что я и описать тебе этого не могу.
Энджи решила поскорее свернуть эту тему. Конечно, сама она была гораздо более сильным человеком, чем Вирджиния, это уже очевидно. Тем не менее даже ей начинало казаться, что дальнейшего обсуждения она не выдержит, с нее хватит.
— И что же в результате вам помогло? Что вас вернуло к жизни? — вежливо поинтересовалась она.
— Ну, моя мать, по-видимому, очень много обсуждала все это с Александром, и они вместе предложили, что, может быть, мне стоило бы оставить на время ребенка и все остальное, уехать в Нью-Йорк и пожить там с родителями. Когда они мне это предложили, у меня было такое ощущение, словно с меня свалился тяжелый груз, словно начала понемногу отпускать какая-то страшная боль. Я едва дождалась отъезда. И хотя, когда машина тронулась, я расплакалась, очень хорошо помню, что расплакалась, я не хотела, чтобы Александр ехал в аэропорт, и расплакалась, когда прощалась с ним, но в тот самый момент, когда мы выехали на Большую аллею — ох, Энджи, тебе надо как можно скорее побывать в Хартесте, тогда все эти названия будут для тебя что-то значить, — в этот самый момент я перестала плакать, просто перестала, и все, и опять появилось такое ощущение, словно с меня свалилась еще одна тяжесть.
— А разве вам не нравится Хартест? — удивилась Энджи. — Мне казалось, вы его любите.
— Люблю. Очень люблю. Но это имение… оно и очень много отбирает у тебя… очень многого требует. Когда Александр привез меня в Хартест и я его в самый первый раз увидела, я глазам своим не поверила. Никогда не думала, что такое изумительное место, я имею в виду не только сам дом, но и озеро, и парк, и беседки, все-все, может оказаться когда-нибудь моим, стать мне домом. Я даже заплакала, когда увидела все это. Помню, Александр когда-то говорил мне, что всякий раз, когда он возвращается откуда-нибудь, при виде Хартеста у него на глаза наворачиваются слезы; вот и со мной стало происходить то же самое. Но… Хартест многого и требует. Или, во всяком случае, мне тогда так казалось. Сейчас я уже постепенно привыкаю к этому.
— И поездка в Нью-Йорк излечила вас?
— Нет, не совсем. Но я стала чувствовать себя лучше. Постепенно повидала старых друзей, понемногу стала отказываться от успокоительного. Но проблемы все равно оставались. Отец — он всегда относился ко мне очень критически — не одобрял то, что я, как он выражался, «сбежала». Он постоянно говорил, что я отлично выгляжу и что, по его мнению, я просто симулянтка. Он говорил это как бы в шутку, но в то же время и всерьез, понимаешь? Мне это было тяжело. И мама, в общем-то, тоже не понимала, что со мной происходит. Она все время суетилась, лезла со всякими пустяками, проверяла, принимаю ли я лекарства, говорила, что я слишком много пью.
— Правда? — Энджи задумчиво посмотрела на нее.
— Да. В общем, приставала с разными глупостями. Нет, настоящий толчок к исцелению мне дал Малыш. Он пригласил меня как-то на обед в устричный бар на Центральном вокзале, это великолепное место, Энджи, тебе бы оно понравилось, я его никогда не забуду, угостил меня устрицами, самыми первыми в том сезоне, и сказал, что, по его мнению, было бы здорово, если бы я опять пошла работать. Он сказал, что Мэри Роуз снова работает, что у нее все идет хорошо и что это пошло ей на пользу. Мэри Роуз, если ты не знаешь — это жена Малыша, она жуткая, как бы тебе это сказать…
— Зануда? — подсказала Энджи.
— Нечто в этом роде. Когда она рожала Фредди, это их сын, то все роды заняли у нее только три часа, всего лишь, и она мне постоянно говорила об этом, причем таким тоном, что, дескать, если бы я заранее вела себя осторожнее и лучше бы подготовилась, то и у меня все прошло бы так же. Ничего, посмотрим, как ей повезет в следующий раз.
— Будем надеяться на лучшее, — сказала Энджи. — Значит, Малыш. Господи, Вирджиния, а почему его так зовут?
— Потому что когда он был еще маленький, а его настоящее имя Фред, у нас в семье всегда самого первого сына называют Фредом, так вот, тогда его называли Фредом Маленьким или просто Малышом, а потом, уже в Гарварде, он был самым молодым игроком в футбольной команде; ну, как-то так и пошло с тех пор. Ему нравится, — не очень уверенно добавила Вирджиния.
Если Малыш действительно больше шести футов ростом и такой здоровый, как говорил Александр, подумала Энджи, то вряд ли ему это может нравиться; однако вслух она этого не сказала. Для Вирджинии Малыш явно был темой, не подлежащей критическим замечаниям.
— Так, значит, Малыш считал, что вам надо снова начать работать?
— Да. Я рассказывала ему о том, что дни в Хартесте тянутся так долго и что мне надо туда возвращаться, а я не знаю, смогу ли, потому что боюсь снова впасть в депрессию. И тогда Малыш сказал, что на работе дни покажутся намного короче. Он был, в общем-то, прав, я действительно скучала по своей прежней работе, чувствовала себя одинокой, ужасно одинокой, а те англичане, с которыми я познакомилась — соседи, старые друзья Александра, — были приятными людьми, но меня к ним как-то не тянуло. Я только подумала, что Александр будет очень против того, чтобы я работала. В общем, я ему позвонила, страшно долго с ним разговаривала и почувствовала, что эта идея ему не нравится, совсем не нравится, но он отреагировал потрясающе. Просто потрясающе. Я ему рассказала, что боюсь возвращаться назад, что хотела бы снова начать работать дизайнером, и он ответил, что конечно, если я этого действительно хочу, мы можем об этом подумать. Сказал, что его всегда тревожило, что я там одна и мне скучно; что вполне понимает, почему мне трудно подружиться с живущими там людьми; но его беспокоит, что будет с Шарлоттой. Не заброшу ли я ее окончательно. Я пообещала, что этого не произойдет и что к тому же у нее есть Няня, а он ответил, что поговорит с Няней, и в самом деле поговорил, и она, великое ей спасибо, сказала, что считает мою мысль пойти работать очень удачной. Она здесь мой самый лучший друг, Энджи; она и ты. Вот так вот все и решилось. И я вдруг почувствовала в себе смелость вернуться. Но, боюсь, Александру все-таки не нравится, что я работаю. А еще больше — что его дочь воспитывает нянька, а не мать. Поначалу мы думали, что по воскресеньям Шарлотта и Няня будут уезжать вместе со мной в Лондон, но с течением времени они все чаще и чаще предпочитали оставаться в Хартесте. Конечно, деревенский воздух для детей полезнее, верно ведь? И Александр тоже рад, что его дочь растет в доме, который он так любит. Но ему все равно не нравится, что я работаю, — хотя, с другой стороны, он очень боится и того, что может произойти, если я перестану работать. И я сама тоже этого боюсь. О господи, ты только посмотри, сколько уже времени! Энджи, извини меня, я бы отвезла тебя домой, но боюсь, я слишком много выпила. Я тебе вызову такси.
— Не говорите глупостей, — ответила Энджи. — Мы так хорошо поговорили. И никакое такси мне не нужно. Мы встречаемся с М. Визерли в «Карлтон-тауэрс», и я с удовольствием прогуляюсь пешком. Честное слово.
Медленно идя по Слоан-стрит, Энджи думала о том, как странно, что Вирджиния, такая богатая и благополучная, лучшими своими подругами называет двух женщин, предельно далеких от нее и по возрасту, и по социальному положению.
По мере того как шло время, Энджи стала замечать в Вирджинии все больше перемен. Она казалась все более уверенной в себе, все более счастливой; Энджи объясняла это ширившейся известностью Вирджинии и ее деловыми удачами; после успеха с оформлением той гостиницы, которую они делали для М. Визерли, заказы к ним стали приходить почти каждый день, и они даже всерьез обсуждали, не взять ли им кого-то третьего, чтобы справиться с растущим объемом работы (предложение, на которое Энджи отреагировала наполовину с удовлетворением, наполовину — с внутренним сопротивлением); но тут однажды, в самой середине августа, Вирджиния как-то сильно опоздала утром на работу, а когда пришла, то была очень бледная и заявила Энджи, что почти наверняка беременна.
— У меня задержка уже больше чем три недели, а сегодня утром меня тошнило, — с гордостью произнесла она.
— Ой, Вирджиния, как здорово! — воскликнула Энджи, и это прозвучало немного неловко. За свою жизнь она еще не имела возможности научиться поздравлять людей с предстоящим появлением ребенка. — А как вы себя чувствуете? Ой, что я, дура, спрашиваю, ведь вам же было плохо! Садитесь, я вам принесу воды. А может быть, еще чего-нибудь?

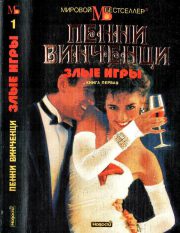
"Злые игры. Книга 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Злые игры. Книга 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Злые игры. Книга 1" друзьям в соцсетях.