Ксения прожила неправильную жизнь, кривую, косую, изломанную. Потому что сама вся — изломанная. С молодости одна мысль — как понравиться сначала приемной комиссии, потом — преподавателю, потом — режиссеру… Вечное преподнесение самой себя… Как лучше, как изящнее, как убедительнее… покривляться перед всеми.
— Ну, положим… — удивился Олег. — Откуда у тебя вдруг взялись такие мысли?
И она сказала честно:
— Не знаю…
Честно? Нет, снова малость приврала. Догадывалась… И не хотела сама в себе ни в чем признаваться. Как обычно. Ударилась о его взгляд…
Она пыталась допытаться у Сашки — у нового Сашки или у того, которого она просто не знала, не хотела знать, — зачем он ездит к отцу Андрею. О чем они там разговаривают.
Сашка всякий раз ускользал от откровений.
— Поедем со мной, послушаешь, — однажды предложил он.
Ксения хотела поехать. Но очередные съемки, Олег… Выбралась она к отцу Андрею уже сама, одна, после развода и выхода за Глеба. Корявая цепочка событий, выкованная наспех, рукой новичка, вся в черных припоях…
Свеже-голубой храм — маковки хрупкие, тонкие, несмотря на округлость, и пронзительные — словно ждал кого-то, торжественно и убежденно.
Отец Андрей стоял на крыльце.
— Здравствуйте, — радостно сказал он Ксении, наспех повязывавшей косынку. — А я все думал-гадал: приедете или нет. По весне да по лету к нам дорога хорошая.
— Я… посоветоваться… — пробормотала Ксения.
Ее очень смущала обстановка вокруг: в чистом маленьком дворе толпились уходящие со службы прихожане, носились дети, прошел дьякон… И все они знали что-то такое, о чем Ксения не подозревала, не догадывалась. Иначе почему они здесь, зачем…
Женщины в платочках, цыплятами топчущиеся вокруг батюшки, сурово-критически, с нескрываемой неодобрительностью осматривали незнакомку. Не узнали — телевизор не смотрят, или платок изменил Ксению, или просто никто не предполагал увидеть ее здесь, ту самую, которую… Но ревновали они ее к батюшке и своей ревности не скрывали.
Грех, подумала Ксения. И одернула себя: «Ты о себе лучше думай… Не судите, да не судимы будете…» Но они знали то, чего она не знала. И их знание было — Истина. Истина — то, что есть…
Ей было неловко, неуютно. Все чужое, непонятное. И зачем она здесь? Ее просто швырнуло, метнуло утром в машину… и ветер рванулся в окна… и зашипела дорога… и понесла… куда и зачем? Что нужно ей? Что она ищет? Вразуми, Господи…
Отец Андрей заулыбался:
— Конечно, конечно… Прогуляемся до моего дома. Здесь неподалеку.
Они медленно двинулись по улице. Еородок с гордостью и неуверенностью носил свой статус, а потому чересчур торопливо и неаккуратно, как-то грубовато избавлялся от всего, что могло напомнить слово «поселок». Отсюда — безвкусные, топорные, грязные четырехэтажки, больше напоминавшие бараки, изрытый глубокими оспинами выбоин асфальт, жестко уничтоживший траву, дорожная колючая пыль, забивающая глаза… Прошипел замученный, слегка кособокий автобус, прогрохотал хамоватый КамАЗ…
— Я понял ваш взгляд, — сказал отец Андрей. — Ничего мы не можем сделать со своей паствой! Как ни твердим о несотворении кумира — творят! Женщины привязываются к своим батюшкам — эмоции берут верх. Александр недавно заезжал. Очень скорбит о случившемся… А Николай Сербский говорил, что скорбь — одно из самых частых проявлений любви. «Потому что во многой мудрости много печали: и кто умножает познания, умножает скорбь». Это из Книги Екклесиаста. Можно сказать проще: «Научись скорбеть, а блаженствовать — это и дурак умеет».
Начались цитаты, подумала Ксения. Старательно обошла взглядом батюшку. Пробубнила:
— У Шопенгауэра… его мой отец любит… написано, что никогда в своих действиях не стоит брать себе кого-то за образец, потому что положение, обстоятельства, отношения никогда не бывают одинаковыми, а различие характеров придает разную окраску и поступкам. Всегда следует поступать согласно собственной натуре. И когда двое делают одно и то же, то это не одно и то же.
Отец Андрей снова улыбнулся:
— Да, кумиры не нужны нигде. Мне рассказывала одна прихожанка-учительница, как стала девятиклассникам в начале каждого урока читать Блока, Пастернака, Есенина… Слушали с необычным вниманием. А потом подошли к ней на перемене и предложили: «Давайте не проходить Пушкина! Мы его и так каждый год читаем, надоело! Лучше Есенина!» Перекорм — опасное дело. Даже Пушкиным.
Быстрые, въедливые глаза отца Андрея… Дал же такие Господь человеку!
Часто вспоминала их Ксения, очень часто… И разговоры — особенно самый первый, — и пропыленный городишко, и канавы вокруг, и мятый асфальт, случайно прорезавший серой лентой землю и сам перепугавшийся своей дерзости…
А ты идешь, спотыкаешься, слушаешь… и думаешь, думаешь, думаешь… Думай, Ксения, думай, размышляй, перемешивай свои мысли, перетряхивай…
— А почему в церкви обычно больше женщин? — брякнула Ксения. — Вот как у вас сегодня на службе.
— Мужчина по природе своей тяготеет к рационализму и веру воспринимает практично — ему нужно обязательно понять ее, истолковать, — отозвался отец Андрей. — А женщины, повторюсь, — существа эмоциональные и часто неспособные объяснить свою веру. Да им это и не очень нужно. Они частенько выдают какие-то свои постулаты, далекие от Библии, зато пережитые и глубоко прочувствованные. И страсть начинается именно с эмоциональной привязанности, с хорошего, милого ощущения. Увидела жена, что дерево приятно для глаз и вожделенно, — так говорится в Библии о том, что предшествовало грехопадению. Женщины по природе своей более грешны, чем мужчины. Ева соблазнила Адама, а не он ее. Так что теперь просто все становится на свое место: женщины отмаливают свой первородный грех.
— И отмаливать его ходят в брюках, — пробурчала Ксения. — Я много раз видела в церкви. Это разрешается?
— Трудно запретить. Да и зачем? Путь запретов — он жесткий, отвращающий. Объяснять — надо, но не запрещать. Иначе может возникнуть впечатление, будто мы у людей без конца что-то отбираем и ничего не даем, превращаем православие в одно лишь огромное «низзя». Для молодых, неопытных это вообще неприемлемо. Запреты, в конце концов, вторичны и служебны, главное — рождение Христа в душе человеческой. А грехи… Они ведь тоже разные. Брюки в церкви — не смертный. Если вам хочется зайти в храм — ведь это вас Господь позвал! — а вы в брюках, лучше зайти все равно. Да, некоторые бабульки могут возмутиться вашим видом. Если еще и ресницы накрашены… Настоящий ужас! — Батюшка усмехнулся. — Но по слову Библии: «Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце».
Две секунды на размышление…
— Я с вами не согласна, — сказала Ксения. — Есть свои правила. И со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Мы как-то приехали на подворье Афонского монастыря, а нас — всю экскурсию вместе с гидом — выставил послушник за то, что некоторые женщины были в брюках. Экскурсовод перед ним извинилась, а он сказал: «Не у меня прощения просите — мне лично вы ничего плохого не сделали!» И привел цитату из Библии: «Ежели мужчина в женское оденется или женщина в мужское — мерзость сотворит». Моя подруга решила удариться в мимикрию — достала из сумки платок и попыталась в него обернуться поверх брюк. На что тот же послушник раздраженно и саркастично ей сказал: «Женщина! Здесь не маскарад, а храм Божий!»
Отец Андрей хитро прищурился:
— На Афон женщин не допускают. Потому и на его подворье все строго. Знаете, Ксения, я один раз видел в монастыре женщину… Уверенную, что оделась правильно. И формально — да: юбка, блузка, платок… Только юбка та была насквозь прозрачная — жуткая стояла жара, — блузка от юбки отличалась не слишком. И я подумал: лучше бы она джинсы надела! Все-таки приличнее.
Ксения засмеялась.
Через дорогу промчалась серая грязная кошка. Попыталась схватить такого же грязного голубя. Не вышло… Кошка расстроенно шлепнулась в пыль и стала вылизывать левый бок. Зорко следила: вдруг глупая птичка еще вернется?…
Ксения вытащила сигарету. И спохватилась:
— Простите…
Отец Андрей шагал широко и спокойно.
— Вы без смущения ведите себя, как хотите. Вы свободный человек. Так и Господь завещал, оставляя нам свободу выбора. А апостол Павел говорил: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать». Свобода — это значит быть самим собой, но не рабом своих страхов и страстей. Раб — это тот, кто, не любя своего дела, трудится лишь ради средств к существованию. Вкалывает, как мы говорим сегодня. Свободный человек действует согласно своей совести и несет свое жизненное бремя, не сгибаясь под его тяжестью.
— Да разве это легко и просто? — пробубнила Ксения. — Не сгибаясь? Сгорбишься поневоле… И никакая свобода выбора не спасет…
Мимо проехали два паренька на велосипедах. Поздоровались с батюшкой. Кошка раздраженно взвыла, хмуро посмотрела им вслед, но своего сторожевого поста не бросила.
— А разве я говорил о простоте и легкости? — Снова веселый быстрый взгляд. — Я говорил о свободной личности. Она всегда невыразима, потому что не определяется противопоставлениями. Неповторима и существует сама по себе. Люди не часы: кто всегда похож на себя и где найдется книга без противоречий? Но в каждом идет невидимая окружающим борьба души и тела. И наши самые глубокие, сильные переживания подчас разбиваются о такие простые вещи, как телесная усталость. Сидел с больным — и уснул. Тело победило. Оно тянет вниз не потому, что так уж плохо, а потому, что не пронизано вечной жизнью. Господь велел нам идти в мир волей, как Он пошел. И принять на себя все ограничения падшего мира, разделить всякое страдание, голод, одиночество, всякую человеческую беду. Но также — любовь, красоту, славу и ликование. Жить среди людей и оставаться людьми свободными. От чего? От страха и корысти, от превозношения и ненависти. Вы опять скажете, что такое не просто? Ксения кивнула:

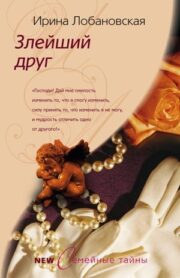
"Злейший друг" отзывы
Отзывы читателей о книге "Злейший друг". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Злейший друг" друзьям в соцсетях.