Считала Катька не спеша, подолгу отделяя каждую купюру от общей стопки и бесшумно шевеля толстыми колбасками малиновых губ, а сосчитав, переворачивала деньги на другую сторону и начинала проверку сызнова. Удостоверившись в том, что нет никакой ошибки, Катерина делила тощую стопочку бумажек на три неравные части и, заставив стариков расписаться в графе получения, принималась за окончательный расчёт.
Самая тоненькая и скромная стопочка, состоящая всего-навсего из одной рублёвой бумажки, предназначалась для того, чтобы донельзя обрадованные её приходом хозяева, не дай Бог, не забыли о таком прекрасном человеческом качестве, как благодарность, и облегчили свою душу добрым деянием.
Вторая и третья стопочки были приблизительно равными как по количеству купюр, так и по их номиналу, но предназначались они абсолютно для разных целей. Одна из них через несколько минут должна была перейти в полную собственность указанной в паспорте личности, а потому, подобно отрезанному ломтю, ценности не представляла, зато вторая, надёжно прикрытая могучей Катькиной дланью, и была тем камнем преткновения, из-за которого происходили все неприятности.
Дело в том, что в служебные обязанности Катерины входило не только отдать пенсию получателю, но и, по возможности, заставить его поделиться своими кровно заработанными рубликами с родным государством. Билеты государственных займов и лотерейные талончики, распределяемые среди населения в добровольно-принудительном порядке, занимали у Катьки большую половину синей сумки и являлись непременным дополнением к любой денежной выплате, независимо от того, была ли это пенсия, получение перевода на самой почте или что-либо ещё.
Заставляя проявлять гражданскую ответственность и поддерживать славный почин страны, непреклонная в своём служебном рвении, Катька взывала к уснувшей сознательности и не мытьём так катаньем впаривала облигации всем без исключения. Особо строптивые граждане и гражданки, упорствующие в своём кулацком мировоззрении и не желавшие отдавать заработанные копеечки на благо развития и процветания своей родной страны, заносились ею в специальный чёрный список. Попавшие в Катькин список не имели права на амнистию: без дальнейших уговоров и увещеваний, начиная уже со следующего месяца, непреклонная поборница социалистической системы распределения ценностей приносила долгожданную пенсию, определённая часть которой была заранее заменена на облигации государственного займа.
Упрашивать непреклонную фурию сменить гнев на милость было абсолютно бесполезно, потому что всё, что противоречило государственным принципам, отметалось ею огульно. Уверенная в собственной правоте и упоённая служением важному общественному делу, Катерина была неумолима, и, называя её за глаза не иначе как Катькой-Облигацией, никто не решался бросить обидного прозвища ей в лицо. Жаловаться государству на поборы в его же пользу было по меньшей мере глупо, и, по старой памяти боясь угодить в ещё большую беду, на радость Катьки-Облигации, обиженные граждане предпочитали молчать в тряпочку.
Лишь однажды Катькина инициатива обернулась не так, как ожидала одержимая труженица. Удачно заставив обменять облигации с истекающим сроком на лотерейные билеты аналогичной суммарной стоимости, Катерина уже праздновала очередную победу над несознательным населением, как вдруг случилось неожиданное. На один из растреклятых билетов, вопреки всем законам здравого смысла, абсолютно непредвиденно выпал богатый выигрыш, а именно велосипед. Такой поворот событий для Катьки-Облигации был страшным ударом, и, отложив все дела в дальний ящик, поборница справедливого распределения земных благ немедленно двинулась в деревню с целью уговорить счастливых обладателей волшебного билета взять выигрыш деньгами и купить на них новую партию государственных бумаг.
Но, вопреки её ожиданиям, несознательные колхозники отдавать велосипед на благо государства отказались наотрез, и, потеряв попусту время, ей пришлось вернуться восвояси с пустыми руками. Негодуя, Катька-Облигация дважды обвела в списке фамилии закоренелых кулаков, грозясь обрушить на их головы все известные ей земные кары, но, вопреки её злости и на радость всей деревне, так и не сумела ничего поделать с неблагонадежными гражданами.
— …Алё, Москва? Марья, ты, что ли? — голос Катьки разрезал тугую тишину, заполнявшую огромный пустой зал, и от неожиданности Анастасия вздрогнула. — Наконец-то, а то мы тут с твоей матерею обзвонилися тебе! Ну что ты сидишь-то, как приклеенная, беги скорее во вторую кабинку, Марьяша нашлася! — насколько возможно округлив свои крохотные сапфировые глазки, Катька-Облигация негодующе ободрала взглядом всё ещё сидящую на стуле Голубикину и нетерпеливо причмокнула.
— Вторая? — Анастасия, поняв, что на другом конце провода ждет Марья, сорвалась со стула и, подхватив сумку, бегом бросилась к кабинке.
— Что за народ пошёл? — сквозь зубы, едва слышно прошептала Катька. — То сидит, как приклеенная, не оторвёшь, то бежит, как на пожар. — Ты дверь-то поплотнее прикрой! — вдогонку крикнула она и, едва дождавшись, пока Анастасия скроется за глухой стеклянной дверью, плотно прижала ухо к трубке.
— Алло, Машенька, ты меня слышишь? Алло! — встревоженный голос Анастасии резанул Катьку по ушам, и, сморщившись, как от кислого лимона, она отодвинула трубку от уха подальше.
— Да, мамочка, я тебя слышу! Как ты? — видимо, из-за большой удалённости голосок Марьи был плохо различим, и, чертыхнувшись, вездесущая почтальонша снова приникла к аппарату. — Мамочка, что случилось? Что-то с папой?
— Нет-нет, доченька, с папой всё в порядке, — зачастила Анастасия, — за него не волнуйся, с ним всё хорошо!
— И вот несут всякую ахинею, говорили бы уж по делу, а то — как ты? что ты? — беззвучно, одними губами прошелестела Катька и, осуждающе глянув через стеклянную перегородку на Анастасию, поджав губы, недовольно дёрнула шеей.
— Алло! Машенька! Ты меня хорошо слышишь? — громко переспросила Голубикина.
— Ты когда-нибудь скажешь, в чём дело, или нет? — беззвучно возмущаясь, Катька раздула ноздри и с плохо скрываемым негодованием взглянула на нерешительно переминающуюся с ноги на ногу Анастасию.
— Мама, что случилось? — голос Марьи был очень далёким, но даже при такой ужасной слышимости в нем можно было разобрать тревожные нотки.
— Машенька! Сегодня ночью умерла мама Кирилла, тётя Анна, послезавтра похороны, если сможешь — приезжай, — видимо, думая, что Марье её слышно так же плохо, Анастасия почти прижала холодную скользкую трубку к губам. — Ты поняла меня? Алло! Маша?
— Что?
— Умерла мама Кирилла, Анна, послезавтра хороним!
— Анна?.. Это ж которая, Кряжина, что ли? — Недоверчиво бросив взгляд на переговорную кабинку с цифрой «2», Катька от удивления чмокнула прямо в трубку.
— Тётя Аня?.. — потрясённо повторив имя, на какое-то мгновение Марья затихла, а потом, с трудом заставляя себя выговаривать слова, медленно проговорила: — Мама, а Кирюша об этом знает? Ему кто-нибудь звонил?
— Дядя Ваня Смердин, сосед Шелестовых, сегодня поехал в Москву. Мы подумали, из райцентра до Мурманска не дозвониться, да и телеграмму из Москвы сподручнее отослать, быстрее дойдёт. Я пока не знаю, как он съездил, потому что назад он успеет только к вечернему автобусу, но, думаю, он всё сделает, ты ж его знаешь, какой он есть.
— Что, мамочка, я не расслышала?
— Я говорю, лучше дяди Вани с этим никто не справится! — громко крикнула Анастасия, но в этот раз Катька-Облигация, наученная горьким опытом, вовремя успела отстранить трубку от уха, и крик Голубикиной не повредил её барабанной перепонке. — Так тебя ждать, дочка?
— Да, я обязательно буду!
— Тогда до послезавтра, я тебя целую, милая!
— Я тебя тоже!
— Ну, начались муси-пуси! — Поняв, что ничего интересного больше не услышит, Катька осторожно положила трубку на рычаг.
— Сколько с меня? — выйдя из дверей кабинки, Голубикина открыла кошелёк.
— Пятьдесят восемь копеечек!
Привстав со стула, Катька-Облигация чуть ли не до половины туловища высунулась из полукруглого окошка и ждала, что с ней поделятся услышанным, но её надеждам не суждено было сбыться. Анастасия достала из кошелька три монеты по двадцать копеек, положила их на тарелочку перед окошком и со словами «без сдачи» пулей выскочила на улицу.
Заливая землю тусклым янтарём позднего сентября, словно на счастье, осень день за днём щедро бросала под ноги золотые монетки листьев тополей и осин, а по ночам, горько сожалея о своей бездумной расточительности, принималась перебирать разбросанные жёлтые кругляшки холодными пальцами и превращала несметное раздаренное богатство в жалкие тёмные медяки. Застывшие по ночи бурыми слюдяными пластинками, к полудню листья прогревались и, размякнув на земле клочками потемневшей обёрточной бумаги, наполняли воздух над деревенским кладбищем терпким запахом прели и едва уловимым ароматом подгнившей мёрзлой травы.
— Сам Един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю тую жде войдё-о-ом… — разластывая бархатистые нотки низкого голоса над едва колеблемой ветром кладбищенской тишиной, отец Валерий читал отходную по Анне, и его глаза, устремлённые в далёкое пространство, были наполнены какой-то торжественной пустотой, недоступной для понимания простых смертных.
— Вроде как Анна, а вроде как и не она, — едва заметно шевеля губами, тихо прошептал Шелестов и, подтолкнув локтем стоявшую рядом с ним жену, кивнул на маленькую, худенькую фигурку, едва видневшуюся из-за бортов свежеструганых досок гроба.
Сложив ручки на груди, Анна и впрямь выглядела неправдоподобно маленькой и сухой, будто лёгкая, тёмная щепочка, по случайности отколовшаяся от ствола. Закинув голову назад и устремив в небо заострённый узкий подбородок, она лежала неподвижно, но, когда по верхушкам старых, раскидистых деревьев пробегал ветер, на её бледном, словно восковом, лице мелькали замысловатые тени, и тогда казалось, что, внимательно прислушиваясь к словам батюшки, она одобрительно улыбается.

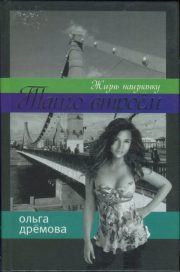
"Жизнь наизнанку" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь наизнанку". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь наизнанку" друзьям в соцсетях.