— Ты не очень-то скачи, а то стекло разобьёшь ненароком. — При взгляде в кристально-чистые глаза Василия Павел Аркадьевич почувствовал, как внутри его поднимается волна негодования: вот ведь, салажонок, скользкий, как уж, ни с какого бока не ухватишь. К нему обращаешься по-человечески, а он от устава — ни на шаг. Ладно… — А что же ты, Краюхин, по лицу Генерального Секретаря, Героя Советского Союза, грязной тряпкой возишь? Что, на гауптвахте давно не был? Так это мы сейчас мигом организуем. — Мстительно прищурившись, Елисеев с нескрываемым удовольствием смотрел на побледневшее лицо первогодка.
— Виноват, товарищ командир! — Краюхин с бьющимся сердцем отбросил тряпку в сторону, и, часто задышав на стекло, принялся вытирать священный лик руководителя партии рукавом матроски.
— Ты что же это, паскудина такая, казённое имущество решил испортить? — каменея лицом, сквозь зубы выплюнул Елисеев.
— Никак нет! — Не зная, как поступить лучше: отложить портрет в сторону и вытянуться по швам или оставить всё как есть, Краюхин судорожно сглотнул, и Елисеев с удовольствием увидел, как губы молодого морячка задрожали.
— А ты его языко-ом, да смотри, чтоб до скрипа! — Наслаждаясь своей местью, Елисеев слащаво улыбнулся. — Ну?! — Не скрывая радости, старшина неспешно провёл языком между зубами и верхней губой и смачно причмокнул.
Не зная, как расценить слова старшины, Краюхин растерянно заморгал, и в этот момент до его слуха донесся далёкий звук шагов, направляющихся к двери Красного уголка. И Елисеев, и Краюхин, застыв на месте, оба какое-то время напряжённо прислушивались к стуку каблуков, но длинное гулкое эхо, будто издеваясь, перемешивало звуки настолько, что определить, кому принадлежали шаги, не было никакой возможности. Крепко вцепившись в портрет Леонида Ильича, Василий беззвучно молился всем святым, чтобы гулкое эхо донесло до него стук жёстких офицерских ботинок, означающий несомненное спасение, а Елисеев, перекосив рот на сторону, напротив, надеялся услышать торопливый топот простой матросской кирзы.
За несколько секунд ожидания в рыжих, коротко стриженных волосах Краюхина выступили крупные капли пота. На какой-то момент шаги совсем затихли в отдалении, и, расплываясь широким масляным блином, круглая толстая физиономия Елисеева благостно засияла, но, видно, на счастье многострадального Краюхина, за него кто-то крепко держал кулачки, потому что, помедлив всего несколько мгновений, шаги возобновились, и по их горделивой, полной внутреннего достоинства неторопливости обоим стало понятно, что с таким шиком может идти только военный офицер.
— И почему на свете везёт исключительно дуракам, ты не знаешь, Краюхин? — не отрывая взгляда от двери, негромко прошептал Елисеев.
— Никак нет, товарищ командир! — серьёзно ответил тот и, оторвав от своей груди портрет в золочёном багете, обменялся с Героем Советского Союза понимающими взглядами.
За окном вагона потихоньку плакало лето, и, рассекая густой влажный студень августовского вечера, колёса поезда выбивали коротенький однообразный мотивчик. Лёжа на верхней полке, Марья прислушивалась к этому монотонному перестуку, и, когда звук делался особенно глухим, ей казалось, что, понизив голоса до шёпота, колёса переговариваются между собой. Сплетничая, они перекидывались короткими, рублеными фразами, а иногда, рассказывая о чём-то особенно важном, выводили длинный громыхающий перебор. Дослушав очередную фразу, гадкие колёсики все, как одно, покатывались со смеху, и тогда, мелко и часто барабаня, их голоса сливались в беспорядочное грохотание, а потом они снова успокаивались и, ритмично постукивая по мокрым рельсам, несли дальше прямоугольные коробочки вагонов.
Марья, подложив согнутую в локте руку под подушку, накрыла ухо коротким, вытершимся до основы, клетчатым одеялом и, знобко вздрогнув, поджала колени к животу. Из щелей фрамуги сильно сквозило, но перекладываться головой на другую сторону не имело никакого смысла, потому что из-за подрагивающей в такт ходу поезда двери дуло нисколько не меньше.
Ровно три года назад, в августе шестьдесят шестого, когда после окончания института она ехала по распределительному откреплению в Мурманск, всё было совершенно другим: и весёлый перестук озорных колёс, и раскалённое золотое солнечное небо, и она сама, и её глупые, по-детски наивные мечты, оказавшиеся просто миражом и исчезнувшие без следа. Стараясь отогнать от себя навязчивые мысли, Марья крепко зажмурила глаза, но ни стук вагонных колёс, ни громкие споры за стеной соседнего купе не могли заглушить боли, от которой рвалась на части её настрадавшаяся, растерзанная, разбитая на мелкие осколки душа…
— …Сколько тебе нужно за то, чтобы ты забыла обо мне навсегда? Сколько?!! Говори!!! — Перекошенное лицо Кирилла было густо-малиновым, и злые навыкате глаза, пересечённые густой сеткой красных жилок, смотрели на Марью с яростью и негодованием. — Я не люблю тебя, в состоянии ты это понять или нет?! Я ненавижу тебя! Не-на-ви-жу! — по слогам выплюнул он и, со всей силы сжав кулаки, громко скрипнул зубами.
— Кирюшенька… — Не зная, куда деться от позора и страха, Марья закрыла лицо руками и стала медленно оседать на скамью. Низкий неразборчивый гул множества мужских голосов заставил её вжаться в самый угол, и, чувствуя, как под ладонями лицо полыхнуло волной обжигающего стыда, она со стоном всхлипнула.
— Что я должен сделать, чтобы ты отвязалась от меня? — Плеснувшись, крик Кряжина ударил Марью в лицо сочным плевком, и по комнате Красного уголка, ударяясь о деревянные стены, с новой силой прокатился растревоженный гул голосов.
— Мичман Кряжин! — Капитан третьего ранга Куприянов с жалостью взглянул на согнувшуюся в три погибели Марью и метнул на Кирилла враждебный взгляд.
— Эх, замордуют теперь парня! Как пить дать, за Можай загонят! — скрипучий шёпот откуда-то справа заставил Марью вздрогнуть. — И чего она сюда заявилась, скажи на милость?
— А чужими руками жар загребать всегда сподручнее. Видно, третьей лишней быть не хочется, а самой сладить с мужиком сил не хватает.
— Может, насчёт жара ты и прав, — загородив рот рукой, обладатель скрипучего голоса коротко фыркнул, — а вот насчёт всего остального ты, Митрофаныч, ошибаешься, потому как третий — не лишний, третий — запасной!
— Оно, конечно, но кому ж охота сидеть на скамейке…
— Товарищи! Попрошу тишины! — голос председателя заглушил поднявшийся было ропот. Постучав карандашом по ободку гранёного стакана, он окинул взглядом всех сидящих на скамьях, откашлялся и приготовился говорить. — Кирилл Савельевич… — словно собираясь с силами, Куприянов набрал в грудь воздуха и, помедлив, с шумом выпустил его обратно. — Кирилл! Все мы, собравшиеся сегодня в Красном уголке, знаем тебя уже без малого три года. За время своей службы ты проявил себя как человек, несомненно, порядочный, основательный и воспитанный. Все три года ты служил образцом примерного поведения и с честью носил форму офицера Военно-Морского Флота Союза Советских Социалистических Республик…
— Смотри, как складно выводит, — на этот раз шёпот справа прозвучал совсем тихо.
— Угу, будто речь на поминках читает. — Невидимый Митрофаныч едко усмехнулся, и в этот момент Марья буквально кожей ощутила на себе его обвиняющий взгляд.
— …учитывая безупречную службу и политическую подкованность мичмана Кряжина, партийным комитетом части 6215 было принято решение рекомендовать его к вступлению в ряды Коммунистической Партии Советского Союза, о чём существует официальная запись, зафиксированная в протоколе заседания от пятнадцатого февраля 1969 года… — Прокатившаяся по комнате волна шума заставила Куприянова прерваться. Достав из папки лист с протоколом, он аккуратно взял его за уголок и, вытянув перед собой руку, продемонстрировал присутствующим. — Рекомендация партийной ячейки — высокая честь и одновременно огромная ответственность…
— Ну всё, плакала Кирюшкина рекомендация кровавыми слезами, теперь ему куда ни кинь — всюду клин, по-любому петля выходит… — Прищёлкнув языком, Митрофаныч разочарованно сплюнул на половицу перед собой.
— …но в свете последних событий недостойное поведение мичмана Кряжина бросает тень на моральный облик советского офицера…
— Ну всё, Митрофаныч, покатилось колесо под гору!
— А я тебе о чём говорил? Куприянов всегда начинает за здравие, а кончает за упокой…
Слова Митрофаныча перемешивались с голосом председательствующего Куприянова и отдавались в голове Марьи непонятными скомканными звуками. Закрыв лицо ладонями, она старалась вслушаться в смысл произносимых слов, но, ускользая от её воспалённого сознания, они слипались в один сплошной ком и, закручиваясь тугим вихрем, раскалывали действительность на сотни мелких обломков, сложить которые в единое целое не было никакой возможности.
— …поступки, недостойные комсомольца…
Ячейка общества… моральный облик… Слипшиеся между собой слова делились на звуки и вкручивались в сознание Марьи, разрывая голову и разносясь по всему телу безудержным горячечным ознобом.
Заставив себя распрямиться, Марья с трудом оторвала ладони от лица и почувствовала, как неистово колотится её сердце. Разрываясь от напряжения, оно жёстко пульсировало где-то у самого горла, отказываясь качать кровь к заледеневшим пальцам рук и ног. Резкая боль в затылке отдавалась оглушительным звоном в ушах, и слова говоривших, тая маслом на раскалённой сковороде, деформировались во что-то скользкое и отвратительно тягучее…
— …Вам придётся расстаться со своим комсомольским билетом.
Смысл сказанных Куприяновым слов дошёл до Марьи не сразу. Оглушённая повисшей в комнате тишиной, ожидая ощутить на себе чужие взгляды, она беспомощно оглянулась по сторонам, но никто на неё не смотрел, потому что все лица без исключения были обращены к центру комнаты.

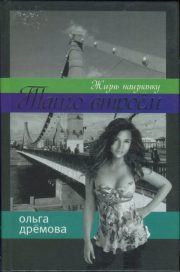
"Жизнь наизнанку" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь наизнанку". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь наизнанку" друзьям в соцсетях.