— Уж больно на сто первом-то нехорошо, там же ведь одне ворюги живут, которых после тюрьмы на выселки определили, там ведь честного народу и не сыскать, — по голосу пожилой соседки было понятно, что она не одобряет выбора молодых.
— И что народ попусту языками чешет, такие же точно люди, как мы с вами, с утра до ночи руки в земле перепачканные, — оскорбилась та на возведённую напраслину. — Ну, да дело не в этом. Купили оне, значит, эти шесть соток, поставили каркасец, обтянули плёночкой — под помидорчики парник, значит; грядки, два куста смородины, куст крыжовника, три яблоньки посадили и такой у-узенькой бровочкой, в один рядочек, под самыми окошками тюльпанчики. Как положено по уставу садового товарищества, построили сараюшку для струмента; помещеньице, значит, для удобств — восемьдесят на восемьдесят, еле развернёшься, и домик для житья, щитовой. Так что с этим домиком вышло… — Рассказчица выдержала эффектную паузу. — Построили оне, значит, одноэтажный домик — в два этажа-то, сами знаете, нельзя, — а детёв-то у них двое, да и растут как на дрожжах, так вот оне и придумали: чтобы маленечко выгадать местечка — с задней стороны пристроить терраску, только не глухую, а со стёклами: вроде как и сараюшка, а вроде как и жилая комнатка вышла.
— Надо же, какие башковитые! — одобрительно вскинулась соседка Марьи. — А мы вот третий год так двумя семьями в тесноте и ютимся…
— Да лучше бы уж мои ютилися в тесноте! — возглас женщины напротив был подобен крику души. — Кто его знает, кто на них нажалился, теперя разве разберёшься? Да только запрошлый месяц нагрянули на участок две комиссии и ну давай мерить: с рулетками туда-сюда шастают, в бумажки ихние, значит, что-то всё пишут, а у самих лица злые-презлые. И-их! — горестно выдохнула она. — Денег, что ли, ждали? Да откуда ж их взять, денег-то? И длина-то им не такая, и ширина-то больше положенного, в общем, постановили так: или к концу лета Марина с Павлушей приводят размеры дома к положенным стандартам, или, значит, готовьтесь к сносу насовсем. Вот какая комедия выходит: не положено…
Вполуха прислушиваясь к разговору соседок, Марья представила себе родительский дом в Озерках, поле за огородом, сплошь засаженное огромными желтоголовыми подсолнухами, попав в которое злая комиссия с рулеткой могла бы попросту потеряться. Огромное чёрно-жёлтое поле, полыхающее на закате в сто солнц одновременно, пахло сладким маслом и цветочной пыльцой, а стебли подсолнухов были двухметровой длины, толстыми и шершавыми на ощупь…
— А в прошлые выходные мы на автобусе ездили в Москву за продуктами, — грубый раскатистый тембр мужчины вывел Марью из сладкого подсолнечного оцепенения. — Накупили — жуть, чуть автобус пополам не треснул: и сыра, и колбасы, и мяса, и сгущенного молока в банках, а Красновой, это соседка моя, и вовсе повезло: напала на майонез. Правда, в мясе костей была тьма-тьмущая, но какой же суп без костей, верно? Москвичи, ити их, ругаются, в спину сто раз лимитой обозвали: и сумочники мы, и авосечники, и саранча поганая, и не знаю, кто ещё. А как жить, если всю колбасу в Москву да Питер везут?
— Правда ваша, — подхватил наболевшую тему угрюмый низкий голос какого-то мужчины постарше, — чего нужно, в сельмаг ни в жисть не привезут, а чего не нужно, — нате, пожалста. Вот в прошлом году завезли к нам французские мужские костюмы — тройки. Честно скажу, красота, а не костюмы: пуговка к пуговке, подкладка ладная, с искоркой, — с восторгом причмокнул он губами. — Только куда ж я с этой искоркой пойду? Коровам хвосты крутить или под трактор — коленвал менять? И потом, может, я бы и купил, в клуб одеть или ещё куда, да только триста рубликов отдать, чтоб один раз при параде выглядеть? Нет, не про нас эти самые костюмы.
— И что ж, так всё они и висят, с прошлого года-то?
— Да нет, зачем висят? Нынче весной к нам Зинки Красновой зять на «Жигулях» приезжал, чуть не потоп, насилу из грязи вытолкали, вот он их и купил, один для себя, а один для товарища евонного.
— Интересное кино вытанцовывается, — в тоне оптового покупателя колбасы появились визгливо-истеричные нотки. — Вот они, москвичи то есть, обзывают честных тружеников села налётчиками и смотрят на нас так, будто мы татарское иго какое, а нашу пшеничку есть не стесняются, да и от молочка с маслицем ни один не отказывается! — раздражённый жарой и обидным прозвищем, он провокационно повысил голос, ожидая хоть какой-нибудь реакции на своё пламенное выступление, но, измотанные длинной дорогой и душной толчеёй, люди переговаривались друг с другом, не обращая внимания на разгорячённого представителя сельского населения, и, пробубнив себе под нос что-то о равнодушии и преступном безразличии, оскорблённый в лучших чувствах оратор постепенно затих.
— Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Москва-пассажирская», — словно с набитой кашей ртом, скороговоркой пробормотал машинист, и, громко зашипев, двери захлопнулись.
Вздрогнув, электричка на какое-то мгновение застыла, а потом, издавая скрежещущие страдальческие звуки, стала медленно разгоняться. Пассажиры, засуетившись, потянулись за авоськами и тюками. Громко переговариваясь, люди снимали с полок свою бесценную поклажу, заранее передвигая коробки и сумки на колёсиках поближе к проходу.
— Петь, ты ведро со смородиной не забудешь?
— Вика, крепко держи папу за руку, чтобы от него — ни на шаг!
— Надежда Фёдоровна, я здесь, у задней двери, продвигайтесь ко мне!
Марья вставать с места не спешила, решив не участвовать в общей давке. Стряхнув с себя последние остатки сна, она выдвинула из-под сиденья большую хозяйственную сумку, собранную для неё родителями, и, приподняв её от пола, тяжело вздохнула. Конечно, наполняя сумку банками со свежим вареньем, родители хотели её побаловать, но такая тяжесть по сорокоградусной жаре могла свалить с ног кого угодно. Марья горестно посмотрела на неподъёмную сумку, и из её груди вырвался громкий вздох.
— От чего будем избавляться вначале: от соленья или варенья? — совершенно неожиданно прозвучало у Марьи над ухом. Обернувшись, она увидела, что за её спиной, у соседней лавочки, стоит симпатичный кареглазый мужчина лет сорока и, весело улыбаясь, смотрит на её неподъёмную ношу.
— Первым делом избавляться будем от вас, — сурово посмотрев на незнакомца, Марья сдвинула брови.
— А мне почему-то кажется, что я вам ещё пригожусь. — Мужчина, не долго думая, встал ногой на лавочку, и не успела Марья ойкнуть, как он, ловко перекинув своё тело через деревянную перегородку спинки, переместился в её отсек.
— Что вам от меня нужно, я не знакомлюсь с посторонними мужчинами в общественном транспорте. — Ощущая неловкость, Марья незаметно осмотрелась по сторонам.
— Вообще-то в мои планы не входило с вами знакомиться, но если вы так настаиваете, извольте: меня зовут Семёном, хотя для вас — просто Сёмушка. — С лёгкостью подхватив тяжёлую сумку Марьи, он лучезарно улыбнулся. — Где мы живём?
— Мы?! — опешив от такой неожиданной атаки, Марья попыталась нахмуриться, но, вопреки самой себе, почему-то улыбнулась. — А почему вы так уверены, что я стану называть вас Сёмушкой?
— Потому что сорок лет назад это имя мне дали мои родители, и, согласитесь, сейчас что-либо менять, даже ради такой красивой девушки, как вы, явно поздно, — непосредственно улыбнулся он.
Заскрипев тормозами, поезд остановился, и динамик, издавая нечленораздельно-хриплые звуки, сообщил о прибытии на конечную станцию.
— Так куда мы везём сумку? И как нас зовут? — переспросил Сёмушка, и в его глазах запрыгали смеющиеся зайчики.
— Сумку… Сумку мы везём на «Киевскую», а зовут нас Марьей, — неожиданно для себя произнесла она, и впервые за последние несколько лет на её лице появилась беззаботная и по-детски светлая улыбка.
— Любочка, на месте?
— Да, Вадим Олегович.
— Будь любезна, вэц-цамое, два кофе, один со сливками и, если можно, поскорее. — Щёлкнув, селектор умолк, и в секретарской наступила тишина.
— И поскорее, — машинально повторила Люба, копируя гнусавую интонацию шефа, и, отодвинув стул, встала из-за стола.
Обращение босса «Любочка» раздражало её до предела, но открыто высказывать своё неудовольствие она не решалась. Возможно, для ее тридцати «Любовь Григорьевна» и впрямь звучало бы несколько помпезно и не по возрасту, но она уж, как ни поверни, заслужила, чтобы ее называли просто Любой.
Две недели назад Вадиму Олеговичу исполнилось сорок восемь, он был моложе Берестова ровно на десять лет, но в свои почти шестьдесят Иван Ильич мог дать этому «юнцу» любую фору и всё равно обойти на финише. Зарайский был невысок, сухощав, с намечающейся лысиной и маленькими бегающими глазками неопределённо-мутного цвета. Чтобы скрыть свой небольшой рост и сутулость, он старался носить ботинки на высоком наборном каблуке и ходить в костюмах, сшитых специально по его фигуре в ателье; но ни дорогие пиджаки, ни стильные туфли не могли придать ему той роскошной неотразимости и кошачьей грации, которая была заложена в Берестове от рождения.
Обладая хорошей жизненной хваткой и острым умом, Зарайский медленно, но неуклонно двигался наверх, без мучений и колебаний перешагивая через головы и врагов, и друзей. Расчётливый, холодный и откровенно жадный, каждый пятилетний юбилей своей жизни он отмечал в новом кресле, никогда не жалея о сделанном и никогда не считая себя хоть в чём-то неправым.
Наблюдая за каплями, просачивавшимися сквозь потемневшее сито кофеварки, Люба вдыхала горьковатый запах «Арабики» и вспоминала годы, проведённые под начальством Берестова. Конечно, у Ивана Ильича были свои недостатки, но ни мелочностью, ни тем более скупостью он никогда не страдал. Требуя от людей порядочности и добросовестного отношения к своим обязанностям, он не изводил подчинённых по пустякам и не заставлял, подобно Вадиму Олеговичу, на каждый вдох и выдох писать объяснительные записки и заявления.

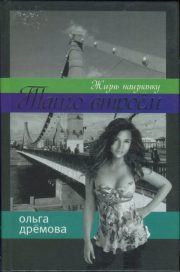
"Жизнь наизнанку" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь наизнанку". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь наизнанку" друзьям в соцсетях.