Случались дни полного безделья, оставлявшие слишком много времени для размышлений. Хэм смотрел в окно, на надоевшую белизну, или в камин, на гипнотические отблески огня. Слишком много свободного времени для горестных раздумий о смерти матери. Снова вернулась былая боль, показавшаяся ему сейчас намного острее, чем в первые дни. Слишком много времени, чтобы в полной мере ощутить обиду на отца, который так скоро предал ее память. Даже полгода не захотел подождать! Ее дом, ее постель, даже одежда, которая еще помнила прикосновения ее тела, теперь осквернены распутной плотью, которую так желает отец.
И, увы, слишком много времени для размышлений об этой самой плоти. Отвратительные образы старика и молоденькой девушки, предающихся плотским утехам в постели его матери, постоянно мучили Хэма.
Он ненавидел их обоих и даже не мог бы сказать, кого из них больше. И уж конечно, не мог бы объяснить, за что их ненавидит.
С тех пор как в доме появилась Келли, отец разговаривал с ним чаще, чем когда бы то ни было раньше, и гораздо более доброжелательно. Летом он трудился рядом с ним в поле, собирал ли Хэм зерно или укладывал сено в стога. Зимой чуть ли не по пояс в снегу прокладывал вместе с ним дорожки к сараю и амбару. Он постоянно нахваливал Хэма, что бы тот ни делал. Мало того, отец теперь обращался с ним как с равным, так, как никогда не обращался ни с одним человеком. Хэм ненавидел его за это.
Что касается новоявленной мачехи, то в ней Хэм не мог обнаружить ни одного недостатка. Как хозяйка дома и повариха она оказалась ничуть не хуже его матери. Вообще за все время она ни разу не оступилась. Хэм ненавидел ее за это.
Ну а какой она оказалась женой, и спрашивать не приходилось. Кто еще смог бы так угодить седовласому человеку, до этого постоянно изрекавшему ядовитые пророчества? Эта женщина стерла желчную маску с его лица и заставила забыть о сдержанности и самоотречении. Теперь он целыми днями насвистывал какой-нибудь жизнерадостный мотив, а в тишине ночей вскрикивал в забытье страсти. Ну что можно поставить в вину такой женщине? Хэм ненавидел ее за это.
Она чинила его одежду, пришивала пуговицы, пекла его любимые пироги и булочки с изюмом. Пыталась утешить, когда замечала, что он в подавленном состоянии. Однажды она застала Хэма в угрюмых раздумьях над заброшенным школьным учебником.
– Ты хотел бы продолжить образование? Я считаю, это настоящая трагедия, когда человека лишают того, чего он страстно желает. Не теряй надежду, Хэм. «Море имеет границы, но человеческие желания не знают предела».
– У тебя на все есть ответ, – язвительно хмыкнул Хэм. – Ведь это не твои слова.
Она не обиделась.
– Не имеет значения. Зато мысли и чувства принадлежат мне. И сам он не раз использовал чужие слова.
– Кто, Шекспир?
– Конечно. Кое-кто даже утверждает, что ни одно из его произведений ему не принадлежит. Но разве это так важно, кто сказал эти слова, кто их написал? Главное, что они существуют. Они прекрасны и верны – вот главное. Они говорят о том, что чувствуют все люди на земле, помогают нам лучше понять этот мир. А понимая других, мы начинаем лучше разбираться в самих себе, освобождаемся от ненужных сомнений, от чувства вины. Иначе мы неизбежно сошли бы с ума. – Мягким жестом она положила свою белую ладонь на мощную руку Хэма. – Тебе многое хотелось бы понять в себе самом, Хэм.
– Мне?!
Хэм хотел рассмеяться, однако во рту внезапно пересохло; хотел отстраниться, но теплая мягкая ладонь на его рукаве притягивала как магнит. Он разглядел на радужках глаз Келли золотистые точки, которые беспрестанно двигались, придавая глазам какое-то особое очарование. Загадочные глаза, способные проникать сквозь покровы его тела и души, раскрывая все его греховные поступки и мысли.
– Отец может запретить тебе ходить в школу, Хэм, но он не может запретить тебе учиться. Книги – вот что тебе нужно. Мы заполним этот дом книгами, любыми, какими ты только пожелаешь. А для начала я дам тебе свою книгу.
Хэма ее предложение потрясло. Вечерами он часто видел, как она сидела, свернувшись клубочком у камина, любовно держа на коленях толстый том Шекспира. Магия слов, напечатанных на бумаге, казалось, уносила Келли далеко за пределы комнаты, за пределы дома, за пределы ее собственного тела. Как он завидовал ей в такие моменты! Как мечтал ощутить эту книгу в своих руках, перелистать страницы, самому открыть для себя их магию! Но он ни разу не осмелился это сделать. Она охраняла своего драгоценного Шекспира, как молодая мать охраняет первенца. Каждый раз после чтения уносила книгу в укрытие своей спальни.
И вот теперь она сама, добровольно предлагает ему свое сокровище. На какое-то мгновение, такое же краткое, какое требуется звезде, чтобы блеснуть на вечернем горизонте и тотчас же исчезнуть, Хэм снова почувствовал к Келли ту же любовь, какую ощутил тогда, в день их первого знакомства, на кладбище.
– Спасибо! Спасибо тебе, Келли. Я с удовольствием…
Однако при следующих ее словах горизонт снова потемнел.
Ненависть вытеснила любовь.
– Хочешь, я уложу тебя в постельку, как полагается хорошей мачехе, и почитаю тебе на ночь сонеты Шекспира?
Хорошо бы изо всей силы ударить кулаком по ее нежному рту, так, чтобы кровь брызнула! Ударить по улыбающемуся рту…
– Я прекрасно умею читать сам! – буркнул он и вышел.
Она все-таки дала ему книгу, и он прочел ее всю, дважды, потом в третий раз. Пьесы, сонеты – все прочел в сумеречном гнете коротких зимних дней и бесконечными зимними вечерами, которые тянулись с января до конца марта. Он полюбил Шекспира, наверное не меньше, чем любила его Келли Хилл – про себя он никогда ее иначе не называл, – и тем не менее обещанное ею понимание так и не пришло. Каждый раз, окончив читать «Гамлета», он понимал трагического и загадочного принца еще меньше, чем до этого. И каждый раз еще меньше понимал Хэма Найта, чем принц Гамлет понимал себя самого. Он скорее умер бы, чем признался в своих затруднениях Келли, всезнающей и презирающей простых смертных. Чем больше он старался, чем больше напрягал мозг, тем меньше мог разобраться в чем бы то ни было. Это превратилось в настоящую пытку.
Он ненавидел Келли за то, что она дала ему свою книгу. Однако больше всего он возненавидел ее после того, как она спасла ему жизнь.
Это случилось в один из душных и влажных дней в начале июня, после полудня, прежде чем солнце пробилось сквозь марево, стоявшее над рекой. Полосы скошенной травы лежали на южном лугу, ожидая бригады рабочих, которые уберут ее в стога. Старый Найт в каменоломне шумно беспокоился о том, что работы сильно задерживаются. Хэм, которому осталась всего неделя до семнадцатилетия, работал в поле, помогая убирать сено в стога. В час дня на поле появилась Келли, в легкой коляске с открытым верхом, которой обычно пользовались для поездок в церковь. Работавшие на поле выпрямились и подняли головы, наблюдая за тем, как умело правит она медово-рыжей кобылой.
При виде ее лицо Хэма, и так уже раскрасневшееся от работы, вспыхнуло еще жарче. На ней были выцветшие джинсы, в которых он узнал свои. Он из них вырос несколько лет назад. Сейчас они вызывающе туго обтягивали бедра Келли. Волосы она связала красной лентой, и они висели сзади хвостиком, в точности как у кобылы.
Потаскушка! Хэма охватили ярость и унижение при мысли о том, что это жена его отца. Ни одна порядочная женщина старше двенадцати лет не наденет мужскую одежду.
Однако другие работники, похоже, не разделяли его раздражения. Они смотрели на Келли с нескрываемым восхищением. Она улыбнулась всем сразу.
– Я привезла вам поесть, ребята. Сегодня у нас особенный обед. Жареные цыплята, горячий хлеб и охлажденный кофе.
Громко выражая свое одобрение, все, за исключением Хэма, устремились к повозке, принимая из рук Келли корзинку с едой и кувшины с питьем. Она взглянула поверх голов на Хэма, стоявшего по щиколотки в сене.
– Не копайся слишком долго, иначе тебе останутся одни крошки.
– Я не голоден.
С угрюмым видом он повернулся и пошел от нее к ближнему краю луга, туда, где нагромождения сланцевых глыб указывали границу между их полем и соседским. Опустился, чтобы присесть па камень, как вдруг резкий, пронзительный крик прорезал сонный летний воздух. Рабочие, столпившиеся вокруг повозки, что-то громко кричали, в страхе толкая друг друга. Кофе пролился на землю, сандвичи выпали из рук. Медовая кобыла громко заржала и встала на дыбы.
Для тех, кто знал, в чем дело, звук, последовавший за этим, не мог бы сравниться ни с каким другим. Хэм не раз слышал его описания: «потревоженное осиное гнездо», «пила, вонзающаяся и сучковатый ствол дуба». А может быть, грохот падающего ножа гильотины? Или грохот множества пороховых ружей?
– Гремучка! – завопил кто-то из рабочих.
Хэм опустил глаза и увидел между ног плоскую извивающуюся голову, черные, как бусины, глаза, пятнистый торс толщиной с мужскую руку, неприметной окраски, сливающейся с землей и камнями. Древесная гремучая змея, североамериканская родственница ядовитой пятнистой гадюки.
С каким-то отстраненным чувством, не ощущая ни страха, ни боли, Хэм наблюдал за едва заметными движениями плоской головы. Увидел, как блеснули два ядовитых зуба, невероятно большие, как они сомкнулись на его бедре, прорвав джинсы. «Гремучая змея сначала обязательно сворачивается в кольцо и только потом нападает…» Вот и конец этим бабушкиным сказкам, все с той же странной отстраненностью подумал Хэм. Он ощущал ритмические судороги мускулистого змеиного тела, ощущал, как переливается в него яд. Чувственность и змея – библейские аллегории.
Страх и боль пришли позже. Вскрикивая от ужаса и отвращения, Хэм соскочил с камня и побежал, высоко вскидывая ноги, колотя змею голыми руками. Она цепко обвилась вокруг его ноги всем своим длинным телом. В отчаянии он схватил ее обеими руками за тонкую шею чуть пониже головы и оторвал от своей ноги. Змея не собиралась сдаваться, била хвостом, издавая гремящие звуки; из открытой пасти капала ядовитая слюна. Держа змею па вытянутых руках, Хэм на одно короткое мгновение взглянул ей прямо в глаза – злобные, горящие яростью и ненавистью.

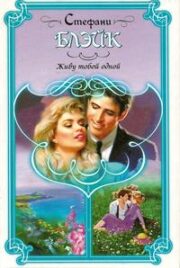
"Живу тобой одной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Живу тобой одной". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Живу тобой одной" друзьям в соцсетях.