14 сентября
Как много есть людей, которые сетуют на однообразность природы и, воображая, будто им достаточно одного лишь взгляда, чтобы сразу все заметить и все охватить, так ничего и не видят в ней, кроме ряда убогих, наскучивших картин, в то время как им следовало бы винить в этом лишь бедность своей фантазии да несовершенство своего зрения. А между тем художник стонет от чувства бессилия, проклиная свою палитру и свои полотна при виде всех этих непередаваемых оттенков, неуловимых очертаний, перед этим постоянно меняющимся обликом великой картины непревзойденно прекрасной природы. И как решиться ему передать ее, когда он видит, что одно и то же место, под одним и тем же небосклоном, то и дело меняется, в зависимости от времени года, от случайной игры света, от треволнений его собственного сердца!
Сегодня утром я остановился у того старого вяза, вкруг которого собирались по праздникам юноши и девушки, чтобы потанцевать под простые напевы деревенского скрипача, состязаясь друг с другом в силе и ловкости, в то время как старики, растроганные воспоминаниями, толковали о каком-нибудь всем им памятном событии, случившемся в дни их молодости, в такой же вот точно день. Милый этот обычай сохранился, как видно, и поныне, ибо я заметил на притоптанной вокруг дерева траве разбросанные цветы, оборванные лепестки ромашки. Хоть они-то по крайней мере счастливы, эти люди, хранящие еще верность своим исконным обычаям и находящие радость в бесхитростных удовольствиях юности.
С этого места взору открывается обширная и глубокая долина, красиво раскинувшаяся между лесами. Вид ее веселит взор и успокаивает сердце. Несколько ручейков, вдоль которых растут ивы, прихотливо извиваются по долине, не удаляясь слишком друг от друга; то они разветвляются, образуя по земле изящные узоры, то бегут рядом, то вновь убегают прочь — и вот они, уже снова соединившись, текут вместе вдоль живописных рощ, очерчивая их неясно поблескивающим контуром. Направо, среди крестьянских хижин, виднеются башенки средневекового замка; его полуразрушенные боковые башни грузно опираются на широкие стены, а ниже блестит река — она совсем неожиданно появляется из-за холма, как будто здесь-то она и берет исток; она вьется на большом расстоянии, убегая далеко-далеко, и словно теряется потом в голубизне неба; виднеющийся вдали мост через нее кажется маленьким черным полумесяцем на лазурном поле.
Когда первые лучи солнца окрашивают восток, все кажется здесь смутным, расплывчатым, неясным; это пока только едва намеченный пейзаж — краски его еще бледны, штрихи неуверенны, очертания причудливы. Но по мере того как рассветает, вырисовываются горы, углубляется перспектива, все становится отчетливее и определеннее; множество различных птичек торопливо снует взад и вперед по воздуху, блестя разноцветным оперением. Наступает час труда, поля и дороги наполняются людьми. Спускается из селения пахарь, погонщик шагает за своим мулом, пастух гонит стадо. С каждым новым часом возникает новое; порой достаточно одного порыва ветра, чтобы все кругом стало совершенно иным. Все леса склоняются долу, ивы будто седеют, ручьи покрываются рябью и эхо испускает глубокий вздох.
Если же солнце, напротив, спускается к западу, долина мрачнеет и тени становятся длиннее. Лишь кое-где более высокие холмы отсвечивают еще золотом средь пурпурных облаков; но нигде эти прощальные отблески дня не горят так ярко, как на сверкающей глади реки, которая мчится вдаль, отражая закат широкой огненной лентой.
Если же на просторы неба выплывает луна — свет ее, ласковый и кроткий, словно девичий взгляд, разливается по всей равнине: он сонно качается, пробиваясь сквозь кружевную тень деревьев, он лежит светлой полосой или колеблется серебристой сеткой на колыхающихся волнах, и тогда все кругом становится каким-то неизъяснимо прекрасным, бесконечно сладостным; леса приобретают особую торжественность — в них раздается благоговейный шорох, в них рождаются тайны. И небо и земля — все исполнено чего-то непередаваемо прекрасного и высокого. Воздух чист и напоен сладчайшими ароматами. Пение пастушьего рожка, далекий благовест, лай чуткой собаки, охраняющей жилище человека, — малейший звук отзывается в вас, возбуждая чувство умиления. И кажется, будто эта величественная ночь сообщает величие и всем вашим чувствам.
Да только ли это? Ночной мрак и одиночество рождают легковерные мечты, заставляют верить в чудесное. Кто, например, мешает моей фантазии поселить в этом замке людей и наполнить его тайнами? Почему не погоревать над судьбой преследуемой супруги, умирающей в этих подземельях, или не вызвать на эти башни призраки их бывших владельцев?
Почему не представить себе, что там, в хижине, скрываются двое влюбленных, которые предпочли свой отчий кров, маленькое поле, которое они сами возделывают, и свои бесхитростные радости всем соблазнам города?
Надо хотя бы помечтать — только помечтать! — о счастье, хотя бы вообразить его себе в том, что я вижу вокруг себя, — ведь это счастье никогда не будет моим уделом.
17 сентября
Это селение находится неподалеку от деревушки, где я в первый раз увидел Элали, — их разделяет лишь возвышенность, покрытая смешанным лесом, через который протоптано бесчисленное множество тропинок. Может быть потому, что мне особенно нравились эти места, может быть случайно, — но мои одинокие прогулки мечтателя почему-то неизменно приводили меня на красивую лужайку, покрытую мягкой зеленой муравой и осененную прохладной тенью широко раскинувшихся кленов. Среди нескольких хижин, ступенями спускающихся по склону холма, возвышается черная от дыма колокольня, обгоревшая во время недавнего пожара, а дальше, там, где начинается равнина, среди полей виднеется несколько хуторков да еще несколько домиков, окруженных садами.
За красивой оградой одной из этих усадеб мне не раз случалось видеть Элали — она задумчиво бродила среди виноградников; ветерок играл складками ее белого платья и кудрями ее волос; иногда она приходила сюда на закате дня напоить свежей водой свои цветники — в тот час, когда цветы, увядающие под страстными лобзаниями солнца, склоняются долу, являя собой трогательный символ нежной души, изнемогшей в душевном томлении; и каждый раз, как я видел Элали, какое-то смутное желание, какое-то непонятное мне самому, тревожное и вместе с тем сладостное чувство овладевали мной, заставляя кипеть мою кровь. Душа моя так пламенно жаждала преодолеть разделявшее нас расстояние и слиться с душой незнакомки! Когда девушка удалялась, я следил за ней взглядом до тех пор, пока она не исчезала из моих глаз, и ждал, пока она снова не возвращалась. И когда она появлялась вновь, я старался поскорей вобрать в себя ее образ, завладеть им, растворить его в себе так, чтобы уже никогда не потерять его. Я стоял неподвижно, не смея дышать, не смея пошевелиться; то, что она была здесь, близко от меня, казалось мне чудом, — и я боялся его нарушить. Порой мрачные предчувствия овладевали мной, словно траурным покровом нависая над моим будущим, — непереносимая боль пронзала мое сердце, какой-то недуг овладевал мной — кровавый туман стлался перед глазами, закрывая мне небо, горячие слезы, словно первые тяжелые капли грозового дождя, катились из глаз и земля уходила из-под ног. Думал ли я о том, что мне надо уйти отсюда? Я все забывал в эти минуты — и свою бумагу, и карандаши, и томик Оссиана.
Потом я углублялся в лес; я шел наугад, прокладывая новые тропы, отстраняя руками мокрые ветви, продираясь сквозь колючие кустарники… Мне нравилось бродить в местах, куда обычно не проникает человек, — так ревниво оберегал я переполнявшее мое сердце чувство, и так непереносима была мне мысль, что кто-то может отвлечь меня от него. Я придумывал ей тысячу имен, я вырезал эти имена на стволах деревьев, чертил их на песке и нередко рядом с ними ставил и свое. И если спустя некоторое время мне случалось вновь проходить здесь и я вдруг узнавал эти письмена, то весь трепетал от счастья, словно это она пожелала сочетать наши два имени. Иногда я сгибал молодые деревца и соединял их вместе, образуя подобие зеленых шатров, или сплетал их ветви, или обвивал их гирляндами плюща с блестящими от росы ланцетовидными листьями и желтоватыми цветами, напоминающими маленькие кимвалы из слоновой кости.
Быть может, наступит день, говорил я себе, и она придет сюда, в эту зеленую беседку, вместе со мной, и я проведу ее под этими зелеными кущами и увенчаю ее плющом. То были сладостные призраки раздраженного воображения, тщеславные мечтания неопытной любви…
Нынче я хотел вновь увидеть знакомые места, но уже не нашел здесь волшебной прелести тех прежних дней. В домике жили новые хозяева — они не пощадили ее цветников и с корнем вырвали кусты жимолости, которые она тогда посадила. Ничего не пожалели они из того, что она любила… Что она любила! Да и как им было знать об этом, чужим людям?
И все же я так был во власти охвативших меня воспоминаний, что, прежде чем покинуть лужайку, невольно еще раз оглянулся — не появилась ли Элали… Потом я понял свою ошибку и заплакал. Но слезы мои полились еще сильней, когда я заметил, что мои беседки сломаны ветром, что чей-то топор срубил мои деревца и все кругом усеяно их ветвями. И при виде этой последней, такой малой, казалось бы, утраты я вдруг вспомнил обо всем, что потерял; я увидел, как одинок я и как несчастен: нет у меня больше ни друзей, ни семьи, ни отчизны; без дружеской руки, без надежд живу я, обманутый прошлым, убитый настоящим, лишенный будущего — покинутый Элали и покинутый небом!
Вот здесь, на этом самом месте, я уже раньше решил в честь обожаемого мной Вертера вырыть могилу средь высокой травы, как он часто о том мечтал, — а сейчас я ощутил в глубине души тайное желание вырыть здесь могилу и для себя…
Какая жестокая судьба — кончить дни свои на чужбине, вдали от того, что нам дорого, умереть, предоставляя сострадательному прохожему заботу о своем погребении…

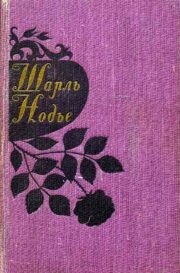
"Живописец из Зальцбурга" отзывы
Отзывы читателей о книге "Живописец из Зальцбурга". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Живописец из Зальцбурга" друзьям в соцсетях.