Наша стоянка была технической, надо было пополнить кое-какие запасы пищи и питьевой воды.
Грузы мы везли в далекую Африку — стальные конструкции и оборудование для нового завода, который наши специалисты строили в дружественном нам государстве. Так как погрузки-разгрузки не предстояло, судно осталось стоять на рейде в заливе. Скоро к борту нашего сухогруза пришвартовался турецкий катер. По трапу поднялась полиция и таможенники, они проверили документы у тех, кто готовился сойти на берег.
Ребята надели парадную форму, намылись, начистились, гладко выбрились. Все — красавцы, как на подбор. Даже Завьялов был сегодня трезв. Старпом дал последние наставления и еще раз предупредил о времени возвращения на судно. Наконец счастливчики сошли на пограничный катер, и он помчал их к стенам Стамбула.
Я и еще несколько человек остались на судне.
Сегодняшняя ситуация подтвердила, что с чужими документами мне дороги на сушу нет. С горя я отправилась в библиотеку. Читать в таком настроении кулинарную книгу не хотелось. Я, скучая, бродила среди книжных стеллажей, выискивая что-нибудь особенное. Но все было нудно и скучно. Я взяла с полки стоящий особняком томик стихов. Прежде я не увлекалась стихами. Даже Маргарита, мать Юрки, не смогла меня заставить читать рифмованные истории. Но сейчас я взяла томик Есенина, которого проходила в школе, и полистала его. Чувствуя себя несправедливо наказанной, находящейся почти под арестом на судне, неожиданно я нашла отклик в его грустных и залихватских стихах.
Вот оно что, удивилась я сама себе, вот для чего пишут стихи — чтобы ими утолять грусть. Вдруг я увидела строки, прямо касающиеся моего нынешнего положения:
Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем,
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.
Я захлопнула томик и задумалась. А что я смогу рассказать знакомым о Босфоре, если меня спросят о нем? Была, мед-пиво пила, по усам текло, да в рот не попало? Но зато я собственными глазами видела море, полыхающее голубым или, точнее, изумрудным огнем!
— Грустишь, Катя? — услышала я голос старпома.
Старпом Царев, виновник моего захвата в кухонное рабство, единственный, кто иногда называл меня моим настоящим именем. Когда я подыхала от трудной и непривычной работы на камбузе, я ненавидела его. Теперь же, когда моя жизнь на судне стала входить в колею, я была почти благодарна ему за то, что попала в море. Море открывало мне не только незнакомый мир, но и саму себя. Я гордилась собой, что выстояла, не сломалась в первые дни. Пусть без блеска, но теперь я справлялась со своими обязанностями. Только невозможность сойти на берег удручала меня.
— Товарищ старпом, отпустите меня погулять со следующей группой матросов, — без особой надежды буркнула я.
— Не могу, Катерина. Страна, сама понимаешь, недружественная. Вот придем на разгрузку в Южную Африку, к нашим друзьям, я тебя выгуляю в своей связке, так и быть.
Я уже знала, что матросов выпускают в заморских городах гулять по трое. Чтобы вернее следили друг за другом и не вздумали сбежать. Интересно, вспомнила я своего отчима, как Петрову удалось смыться при таком надзоре и остаться в другой стране? Слова Царева о прогулке в африканском порту воодушевили меня. Наверно, такую же радость испытывает зэк, которому пожизненное заключение заменяют пусть длинным, но определенным сроком.
Обещание, данное старпомом, смягчило меня. Мы впервые разговорились по душам. В большой каюте, где размещалась библиотека, сейчас никого не было.
Круглый иллюминатор был распахнут и вместе с легким ветерком впускал в себя волнующие звуки турецкого порта, чуть приглушенные расстоянием: гортанные выкрики, лязг механизмов, гудки буксиров.
Иной мир бурлил рядом, но был бесконечно далеко.
Я избирательно рассказала старпому о своей жизни, не утаив моего побега с собственной свадьбы. Но о беременности я даже не заикнулась. Зато с особой гордостью поведала о практике минувшим летом, о своих впечатлениях от морского полигона, от людей, служивших там. В свою очередь и Царев предался воспоминаниям. Сказал, что тоже учился в Ленинграде. «Питер — столица русского флота», — добавил он. Мое ухо сразу выхватило, что он тоже заканчивал морское училище.
— Высшее военно-морское имени Дзержинского? — воскликнула я.
Нет, Макаровку, училище гражданского флота.
От разговоров о Питере мы вернулись к порту приписки нашего судна. В Сухуми Царев работал уже десять лет и знал в порту всех, и не только в порту. Оказалось, что с Гурамом Китовани он тоже пересекался по дедам, хотя они и работали в разных ведомствах. Я тут же со смешком назвала, наконец, главную причину моего появления в Сухуми — поиски отца. И сказала, что Китовани не признал меня.
— Как можно не признать такую девчонку? — шутливо возмутился Царев. Его красное лицо украсила задумчивая улыбка. — Я, как увидел тебя, сразу почувствовал характер и стойкость духа. Поверь, я людей знаю. Вот что. Давай заключим тайный союз: на время похода я буду твоим отцом.
Я остолбенела от его слов. За эти недели я успела прочувствовать, что значит быть изгоем в коллективе. И если этот человек сейчас предлагал мне свою защиту, почему я должна отталкивать его?
Между тем Царев, вдруг смущенно опустив глаза, добавил:
— Понимаешь, я по своей вине потерял дочуру.
Жена увезла ее куда-то в Сибирь, когда ей и трех лет не было. Сейчас она, поди, уже тебе ровесница. — Он почесал за ухом, потом демонстративно посмотрел на часы и решительно встал. — Мне пора. Отдыхай сегодня. Катя. Матросы на берегу в кафе да пивнушках будут грузиться. Остальным хватит того, что с утра наготовила.
Я осталась в библиотеке одна. Слова Царева об утраченной связи с дочкой не вызвали у меня никакого сочувствия. Выходило, что он в моем лице проявлял заботу о ней. Быть чьей-то заместительницей радости мало. Да и где же он раньше был, пока я кувыркалась тут, мучаясь от своей неумелости? Я еще раз с удивлением убедилась: как часто во взрослом мире ставят знак равенства между понятием «хороший работник — хороший человек». Я задумалась. Может, они правы. Может, разгильдяй не может быть человеком, достойным любви? А с другой стороны, все эти барыни в старинных романах? Они же ни черта не делали, только сидели целыми днями перед зеркалами, прихорашивались, а вечерами выезжали в свет. Их-то за что любили? Да что дамы! А кавалеры, разные скучающие печорины? Тоже отъявленные бездельники. А сколько девиц по ним сохло! Или мерки старых времен сейчас не годятся?
И вдруг меня осенило! Все зависит от места. Назвался груздем — полезай в кузов! Значит, отныне, кем бы я ни работала, куда бы ни попала, я должна соответствовать месту. А если я стану просто чьей-то женой, тогда… Тогда — опять кухня, еда и стирка. Но как же любовь? Где ее место? И вдруг я поняла, что про любовь ничего не знаю. Да что любовь, просто добрые отношения мне недоступны. Я не знала доброты и ласки в детстве, в семье. И я не умею сама быть доброй. Может, есть связь между этими двумя линиями? Как я поступила с Юрой, единственным человеком, который видел во мне хорошее и любил меня? Я злюсь на матросов, что они суровы ко мне, а что я сделала для них, исполняющих такую трудную работу?
Вопреки дарованному мне выходному я вернулась на камбуз. Я решила испечь пирог. Захотелось порадовать тех, кто нес вахту на корабле и так же, как я, был лишен возможности прошвырнуться по заманчивому миру капиталистического разврата. Хватит ныть о своей несчастной судьбе, в мире есть немало людей, кому приходится гораздо труднее.
Глава 10
С этого дня моя жизнь на корабле резко изменилась в лучшую сторону. После короткой стоянки в Стамбуле мы продолжили свой путь. Матросы, отдохнув в портовых кабаках, стали мягче и веселее.
Даже мой шеф стал вести себя иначе: пил не много, и только пиво, вспоминал разные веселые истории, травил, как здесь выражаются, анекдоты. В этом своем хорошем состоянии он значительно облегчил мою жизнь. Завьялов полностью взял на себя выпечку хлеба, варил компоты, морсы. И жизнь вокруг нас, в море, тоже бурлила вовсю. Теперь мы не были единственным судном, затерянным среди морских волн. В этом районе судоходство очень оживленное. Мраморное море, пролив Дарданеллы, Средиземное море бороздили сотни иностранных кораблей, были и наши суда.
Хотя работы было по-прежнему много, я теперь чаще выбиралась на палубу, причем не пряталась, как прежде, за трубами на юте, а с удовольствием курила с матросами на баке. Как здорово стоять на носу корабля, обласканной встречным ветром и капельками соленых брызг! Часто перед носом корабля играли дельфины, особенно много их было в Эгейском море.
Мощное белесое тело то выпрыгивало перед самым форштевнем, то ныряло в сторону, чтобы через несколько метров вынырнуть вновь. В какой-то миг дельфин прямо перед моими глазами распахнул крыльями свои плавники, и я увидела у него под мышкой морщинистую, как у слона, кожу. В следующий миг свободолюбивое животное вновь ушло на глубину, в ярко-синюю прозрачную воду. Все это — и звенящая, прозрачная вода, и слепящее солнце, и пальмы с кипарисами по берегам — было похоже на рай. И в этом раю вокруг меня, едва ли не единственной Евы, вились три десятка Адамов: загорелых, мужественных, энергичных. Я и сама успела покрыться бронзовым загаром, хотя проводила на палубе не так уж много времени. При пересечении экватора я подверглась традиционному крещению у властелина морских глубин — Нептуна. Меня неожиданно схватили его помощники и бросили прямо в одежде в бассейн. Я чуть не захлебнулась, но благополучно выплыла. Ощущение нового рождения было вполне реальным. Я чувствовала свежесть и радость во всем теле.
После разговора в библиотеке старпом как-то по-отечески стал опекать меня. Изредка он заглядывал на камбуз, интересуясь, не нужна ли мне помощь, не прислать ли пару матросов. В другой раз завел разговор о поэзии. Он запомнил, что я листала Есенина в день нашего первого разговора по душам, и читал мне наизусть его стихи. От Царева я узнала еще одного поэта — Николая Рубцова. Книжек его в библиотеке не было, но в рукописных листках он ходил среди офицеров. Рубцов тоже был когда-то юнгой на флоте, и стихи его были близки морякам.

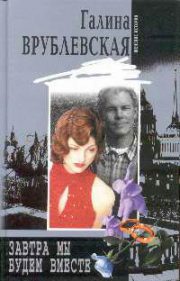
"Завтра мы будем вместе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Завтра мы будем вместе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Завтра мы будем вместе" друзьям в соцсетях.