– Что ж, сон и впрямь странный, – ответила Дуксия, – но там, внизу, твой отец садится ужинать, и если ты не поторопишься, то похлебка остынет.
Однако Герлева, сидя на постели, не шелохнулась, и Дуксия, войдя в горницу, заметила: на лице дочери проступило какое-то странное выражение, словно она видит то, что недоступно простым смертным. Герлева вдруг прижала руки к животу и голосом, обретшим силу и звучность, произнесла:
– Мой сын будет королем. Он станет захватывать и подчинять, править Нормандией и Англией, как то дерево, что простерло над ними свои ветви.
По мнению Дуксии, все это была сущая ерунда. Она уже собралась было успокоить дочь, как вдруг та, вскрикнув от боли, вытянулась на кровати. Все ее тело напряглось в попытке облегчить внезапный приступ.
– Матушка! Матушка!
Дуксия засуетилась вокруг дочери, и обе забыли о странном сне и его значении.
– Тише, тише, дитя мое, успокойся. Сначала тебе будет больно, но потом все пройдет и ты почувствуешь облегчение, – сказала Дуксия. – Мы сейчас же пошлем за нашей соседкой Эммой, которая прекрасно разбирается в том, как ухаживать за роженицами. Можешь мне поверить, она приняла больше детей, чем ты когда-либо сумеешь родить. А пока полежи спокойно, у нас еще есть время.
Однако ни желания, ни возможности ломать голову над сном Герлевы у Дуксии не было, потому что Фулберт внизу потребовал вареного мяса, а дочь вцепилась в нее обеими руками – ей было очень страшно, и она боялась, что схватки могут повториться в любую минуту. Словом, у матери хлопот был полон рот, но тут наконец в зал вошла Эмма и, осмотрев Герлеву, сообщила, что роды могут и не начаться еще несколько часов. Повитуха помогла Дуксии убрать грязную посуду со стола, проследила за тем, чтобы сервы приготовили солому и шкуры для постели хозяина дома.
Фулберт очень любил Герлеву, но при этом был здравомыслящим человеком. Завтра ему предстоял очередной трудный день, поэтому он счел бы себя дураком, отказавшись от заслуженного отдыха ради такого обыденного дела, как роды. Более того, двусмысленное положение дочери ему никогда не нравилось, и, хотя соседи полагали за честь, что Герлева стала возлюбленной столь могущественного сеньора, как граф Иемуа, сам Фулберт, тем не менее, так и не смирился с этим. Укладываясь спать, он признался себе, что чувствовал бы куда большее удовлетворение, если бы его внук был законным сыном честного бюргера, а не благородным бастардом.
Когда внизу в зале все наконец было прибрано, а домашние расположились вокруг главы дома на ночлег, Дуксия с Эммой поднялись наверх, в горницу, где на своей роскошной кровати металась и стонала от боли Герлева.
Эмму недаром считали лучшей повитухой во всем Фалезе. Она умела читать по звездам, толковать знамения и предсказывать великие события, поэтому, когда обе женщины уселись на невысоких скамеечках у жаровни с древесным углем, Дуксия вознамерилась пересказать ей сон Герлевы. Головы, украшенные чепцами, сблизились, и кровавые отблески углей легли на их сосредоточенные, испещренные морщинами лица. Выслушав Дуксию, Эмма согласно кивнула и прищелкнула языком. Может статься, что именно так все и будет, сообщила она Дуксии, принявшись рассказывать ей о подобных снах, которые благополучно сбылись на ее памяти.
Через час после полуночи родился ребенок. В каком-то сарае неподалеку петух, очевидно, заметивший свет звезды сквозь щель в двери, одиноко прокукарекал, и вокруг вновь воцарилась тишина.
В углу комнаты, рядом с жаровней, лежал соломенный тюфяк. Эмма, завернув младенца в холстину, уложила на него ребенка. Здесь он будет в безопасности, пока сама она займется Герлевой. А когда, спустя некоторое время, к нему подошла Дуксия, чтобы поднять на руки, то обнаружила: малыш выпростал ручонки и обоими кулачками вцепился в солому, на которой лежал. Она с радостью отметила, что он оказался настоящим крепышом, и позвала Эмму, дабы и та восхитилась его силой. Быть может, пророчество еще было свежо в памяти повитухи, или же ей до сих пор не доводилось видеть столь решительных, энергичных новорожденных, но она воскликнула:
– Помяни мое слово, Эмма! Этот малыш станет великим принцем. Смотри, как он пытается завладеть тем, что окружает его! Он будет хватать и стараться удержать все, что попало ему в руки, вот увидишь!
Речь ее достигла слуха Герлевы, которая, как казалось ей самой, провалилась в какую-то бездонную черноту глубокого обморока. Слабым голосом она прошептала:
– Он станет королем.
Едва окрепнув и вернув себе способность мыслить связно, Герлева послала за Вальтером и приказала ему мчаться в Руан, дабы уведомить графа о том, что у него родился сын. Вальтер слишком любил Герлеву, чтобы возмутиться ее бесцеремонными манерами, но Фулберт, которому требовалась помощь сына для выделки шкур речной выдры, воспротивился, сочтя затею пустой тратой времени, и едва не запретил ему ехать.
Когда Вальтер вернулся из Руана, Герлева уже вполне окрепла и, не успел он перешагнуть порог отчего дома, как она набросилась на него, засыпав бесчисленными вопросами, упрекая в том, что он не возвращался так долго.
– Пробиться к милорду графу оказалось совсем нелегко, – оправдывался Вальтер. – В руанском замке он окружил себя важными сеньорами, а пажи попросту не пускали меня в двери.
– Но ты видел его? – в нетерпении вскричала Герлева.
– Да, мне все-таки удалось повидаться с ним, когда он отправлялся на большую оленью охоту.
Тут Герлева принялась расспрашивать Вальтера, как выглядел милорд, в каком расположении духа пребывал и что сказал, когда узнал новости. Брат по мере сил постарался утолить ее любопытство, но, по его словам, выходило, будто милорд выглядел почти так же, как и всегда, каковой ответ, понятное дело, ничуть не удовлетворил Герлеву. Тогда Вальтер извлек из своей сумы поясок из золотых пластинок, скрепленных вместе, и протянул его сестре, заявив, что милорд передает ей вот это в знак своей любви и наказывает до его возвращения всецело заботиться о малыше.
Но прошло еще немало времени и ребенка уже успели окрестить, прежде чем граф Роберт вернулся в Иемуа. Герлеве передали, что он прибыл в Фалез и поднялся на гору, к замку, во главе пышной свиты своих сторонников.
Сей же час Герлева и Дуксия поспешно принялись приводить зал в порядок, разбрасывая по полу свежий тростник, подметая остывшие угольки и серый пепел, разлетевшийся во все стороны от горящих сосновых поленьев, пылающих в самом центре зала. Герлева одела малыша в долгополую рубашку, которую связала сама, а затем облачилась в голубое платье, перехватив его на талии пояском, что подарил ей милорд. Даже Фулберта удалось уговорить сменить кожаную тунику на тонкошерстную; отец отправил Вальтера проверить, достаточно ли в погребе вина, а также ячменного пива, дабы граф и его свита смогли утолить жажду.
Едва было покончено со всеми приготовлениями, как стук копыт и лязг конской сбруи возвестили о приближении милорда. Фулберт и Вальтер, выбежав навстречу, обнаружили у своих дверей целую кавалькаду: милорд, следуя свойственной ему шумной и громогласной манере, привез с собой нескольких благородных сеньоров и множество слуг.
Милорд граф прискакал верхом на черном жеребце. Граф был хорошо сложенным, ладным мужчиной, с небольшой гордо поднятой головой. Он кутался в пурпурную королевскую мантию, перехваченную на правом плече застежкой с крупным ониксом. На боку у него висел меч, а под распахнувшейся мантией виднелась алая туника, отделанная зубчатой каймой, шитой золотом. На руках у него позвякивали золотые браслеты, каждый шириной не менее дюйма. Капюшон мантии был откинут, а голова оставалась непокрытой. Волосы, черные как вороново крыло, по нормандскому обычаю были коротко подстрижены.
Он легко спрыгнул с седла, и Вальтер, приветствуя его, преклонил колено, а затем поспешно вскочил на ноги, принимая повод. Милорд граф хлопнул юношу по плечу с той фамильярностью, с коей относился к людям, которым доверял, и весело поздоровался с Фулбертом. После этого обернулся к лордам, тоже по его примеру спешившимся, и воскликнул:
– Идемте, сеньоры! Сейчас вы сами увидите моего славного сына, о котором я так много слышал! Только после вас, дорогой кузен; я обещаю вам самый теплый прием. – Взяв под руку мужчину, к которому были обращены эти слова, он вместе с ним вошел в зал.
После яркого солнечного света на рыночной площади здесь, казалось, царит кромешная тьма. Милорд граф, растерянно моргая, из-за того что дым от огня ел глаза, остановился на пороге и принялся озираться по сторонам в поисках Герлевы.
Она подошла к нему быстрым шагом; он немедленно отпустил руку кузена, обхватил Герлеву за талию, оторвал от пола и прижал к груди, стиснув в медвежьих объятиях. Они обменялись несколькими влюбленными словами, сказанными слишком тихо, чтобы мужчины, стоявшие позади графа, могли их расслышать.
– Милорд, сейчас вы увидите своего сына, – проговорила Герлева и, взяв графа за руку, подвела его к колыбели в углу, где лежал младенец.
Граф Роберт, именуемый друзьями Великолепным, казалось, до отказа заполнил весь зал своим благородным величием и роскошью. Мантия его на ходу сметала тростник на полу в маленькие кучки, а драгоценные каменья на его пальцах вспыхивали острыми лучиками в отблесках огня в очаге. По-прежнему держа Герлеву за руку, он остановился рядом с колыбелькой и сверху вниз взглянул на зачатого им ребенка. В глазах графа вспыхнуло нетерпение, когда он склонился над колыбелькой, и цепь, которую носил на шее, скользнула вперед, закачавшись перед личиком младенца. Тот протянул к сокровищу свои цепкие ручонки; словно желая уразуметь, откуда она взялась, поднял глазенки на лицо графа Роберта и пристально взглянул на него. В этот момент стало очевидно, что глаза у них очень похожи и на личике малыша написано то же упрямое выражение, коим отличались все нормандские герцоги еще со времен Ролло[4]. Родственник графа, молодой Роберт, сын графа д’Э, прошептал об этом на ухо смуглому мужчине, стоявшему рядом. Это был Гийом Тальвас, лорд и властитель Беллема. Тальвас, глядя на ребенка поверх плеча милорда, пробормотал нечто, очень похожее на проклятие, но, заметив, как молодой Роберт д’Э с удивлением уставился на него, попытался скрыть замешательство под смехом, обронив, что прочел ненависть в глазах младенца и увидел падение собственного дома[5]. Подобное объяснение показалось молодому Роберту нелепым, и он счел, будто сеньор Беллема в замке выпил слишком много ячменной медовухи. Ведь ребенок, лежавший перед ними, был безземельным бастардом, тогда как Гийом Тальвас владел поместьями во Франции и Нормандии, кроме того, считался человеком, с которым лучше не ссориться. Роберт д’Э ответил Тальвасу столь непонимающим взором, что тот покраснел и отошел, сам едва ли разумея причину своей неожиданной вспышки.

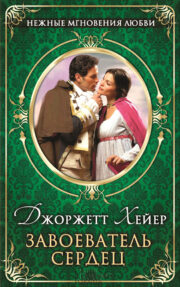
"Завоеватель сердец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Завоеватель сердец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Завоеватель сердец" друзьям в соцсетях.