Почти у каждого человека есть корневая система: мать, отец, бабушки, дедушки, братья, сестры… Если нет кого-то из основных ответвлений этого корня, хоть в усеченном виде, «то он все равно продолжает…» существовать. Иногда роль и функцию отсутствующего члена семьи берут на себя оставшиеся. Семьи могут быть разными по составу, но все-таки они – семьи.
Еще есть дяди и тети – родные, двоюродные, троюродные, которых вы, может, никогда и не видели. Но они где-то есть: улыбаются с черно-белых фото, шлют открытки раз в год из города, который с трудом можно найти на карте. Вы приглашаете друг друга в гости и знаете, что никогда не поедете, потому что не найдете, о чем говорить при встрече. Но они есть.
У Папочки не было корневой системы. А может, и была где-то, хоть один маленький корешок, но он об этом не знал.
На фотокарточках, хранившихся в шкафу рядом с грамотами за давние спортивные достижения, Ия видела только двух женщин. Бабушку и мать. Об отце Папочка никогда не слышал, как и о возможной другой родне.
Говорил, что бабушка похожа на Вассу Железнову. Она рано умерла, не оставив в его памяти воспоминаний, а образ властной, сильной женщины, скорее всего, был взят из тех же фотокарточек.
Мать была полной противоположностью Вассе. Куколка Барби из шестидесятых годов. Складная фигурка, светлые волосы, уложенные в модную тогда прическу «бабетта», большие карие глаза. Она была красива и похожа на Бриджит Бардо, только вместо гордости и достоинства в глазах стояло униженное извинение.
– Мама Зина была женщиной, которая ищет любовь, – говорил про нее Папочка.
Заморские Бригитты ищут свою любовь на Лазурном берегу, среди пальм, белых яхт и красных ковровых дорожек. И находят – белозубую, галантную, романтичную. Мама Зина жила на правом Невском берегу, но тоже искала любовь среди пальм и красных ковровых дорожек. Только вместо белых яхт – белые скатерти.
Она работала официанткой в ресторане. Любовь находила транзитную, командировочную, бурную, но скоротечную, всегда как будто из-под полы.
Когда появилась дочка, мама Зина перебралась на островную Петроградку в двенадцатиметровую комнатку в коммуналке на Большой Пушкарской. Она выписала из деревни Вассу и продолжила поиски любви, которые еще казались ей временными. Когда ей стукнуло сорок, стало понятно, что поиски эти – единственное постоянство в ее жизни. Мама Зина запила.
Васса вскоре умерла. Единственной ее мечтой было вернуться на родину, в деревню под Псков. В городе она так и не прижилась и мирилась с каменными громадами домов ради внучки. Вернуться она не успела. Похоронили ее тоже в городе. На каком кладбище, Папочка не знал. Мама Зина туда не ходила.
Вместо Вассы появилась нянька. Мама Зина платила ей своими чаевыми и называла «гувернеркой». Нянька была доброй, заплетала по утрам косички и отводила в школу.
Косички Папочка запомнил на всю жизнь. Наверное, они были самым светлым воспоминанием о детстве.
Как-то Ия с Папочкой сидели в парке на скамье. Норма бегала рядом. К ним подсела женщина с дочкой. Пока девочка ковыряла лопаткой газон и играла с собакой, женщина приглядывалась к ним, а потом, разговорившись, обронила:
– Я своей дочке всегда платьишки надеваю, косички заплетаю… Знаете, чтобы как бы чего не вышло.
– Мне тоже косички в детстве заплетали, – с гордостью сообщил Папочка. – Но, знаете, ничего не вышло.
– Не помогло, – поддакнула Ия, а сама подумала, что своей дочке тоже заплетала бы и наряжала. Она бы не хотела, чтобы ее ребенок был исключением, хотя сама всегда стремилась этим исключением быть.
Период косичек продлился в ее жизни недолго. Мама Зина пила все сильнее, денег на «гувернерку» стало не хватать. Она утратила красоту Бриджит Бардо и стала походить на Вассу, но только внешне, твердости характера, конечно, не обрела. Это отсутствие стержня и было главной бедой мамы Зины. Не имея вектора внутри и потеряв обертку снаружи, она обрушилась разом, без сопротивления.
Пьяная мать по несколько дней не появлялась дома, а приходя, устраивала дебоши. Папочка, а тогда еще тринадцатилетняя Наташа, распрощалась с косичками и по полгода жила в спортивном интернате.
– У нее есть данные, – говорили тренеры по плаванию. Бассейн, сборы, соревнования стали единственным смыслом жизни.
Маму Зину хотели лишить родительских прав, а Наташу собиралась удочерить бездетная семья тренеров, но что-то не сложилось. Зина на время взялась за ум, но, как только дочь ей оставили, опять принялась за старое.
Пришла пора превращаться из угловатого подростка в высокую спортивную девушку. Наташа превратилась, но как-то наполовину. Девичья плавность, округлость движений не пришла. Она всегда была «своим парнем» и при этом «прикольной девчонкой».
В летнем пионерском лагере она подружилась с мальчиком-старшеклассником. Он тоже был высоким, спортивным, а еще очень вежливым. Они ходили, взявшись за руки, и разговаривали о спорте. Она боялась, что он будет спрашивать про ее семью, потому что, повзрослев, стала стесняться матери. Он не спрашивал и про свою семью ничего не говорил. Казалось, тоже избегает. Наверное, и у него не все гладко, решила она.
На прощание он признался ей в любви и в том, что его отец – известный всей стране актер и певец. Она хотела было оставить ему адрес спортивного интерната, но спохватилась и дала адрес матери.
Полгода, с сентября по март, на Большую Пушкарскую приходили письма из Москвы. Мама Зина гордилась и кричала в раскрытое окно на весь двор-колодец:
– Моей-то, сын того самого пишет! Скоро мы рванем в Москву, а вы сгниете здесь, сссуки!
Соседские окна захлопывались, а мама Зина хохотала и приплясывала. Она знала, что больна раком и медленно исходит, а потому пила уже без стеснения, без оглядки. Так же остервенело и упрямо, как искала любовь.
В любовь она больше не верила и ненавидела даже это слово, как самый большой в жизни обман, но в редкие минуты просветления надеялась, что хоть дочери ее повезет. Ведь где-то же должны быть любовь и везение. Им бы чуточку, хоть с наперсток, – они искупаются в них, как в море, на котором ни разу не были.
Весной «писарчук», как про себя прозвала его мама Зина – уже любя, уже почти считая своим зятем, – собрался приехать в город на Неве.
О госте знал весь двор и, конечно, не верил. Сгорая от стыда, ехала домой из спортивного интерната Наташа, обряженная во взятое напрокат у соседки по комнате голубое платьице с воланами по подолу, прикрывающими острые коленки. Она – тогда еще она – была напугана и несчастна.
Проклятое платье только усиливало страдания. Привыкшее к брюкам и казенным спортивным костюмам тело вело себя как неродное. Легкое изящное платьице сковывало его, как скафандр. Больше всего хотелось сбросить эту казавшуюся робой паутинку и очутиться на дорожке в бассейне, на своей территории, где никто не будет оглядываться, разглядывать, подмигивать и кивать.
Она шагала по тогда еще Кировскому проспекту на Большую Пушкарскую, как астронавт в безвоздушном пространстве по поверхности Луны: медленно и плавно, высоко поднимая ноги в соседкиных туфлях на маленьком каблучке, не зная, куда девать длинные руки.
Встречные мужчины смотрели заинтересованно и кивали с одобрением, но их взгляды ей, не привыкшей к мужскому вниманию, казались брошенными с близкого расстояния кинжалами. Она готовилась к самому страшному – завернуть в свою арку, зайти в свой двор, который ощерится на нее десятками глаз.
Московский гость не опоздал и даже великодушно не обратил внимания на высунувшиеся в окна головы. Полярные суждения «похож» – «не похож» неслись со всех сторон через узкий двор и, как целлулоидный мячик в пинг-понге, отскакивали от стен. Сходство со знаменитым родителем было неочевидно, но то, что в их двор залетела птица важная, столичная, ясно с первого взгляда.
Мама Зина не пила три дня, гордилась собой и даже напекла пирогов, выложив их замысловатой горкой на блюде посреди стола, как когда-то в ресторане.
Гость вошел в квартиру и пошел по длинному коммунальному коридору с лыжами, тазами и детскими ванночками на стенах, стараясь не удивляться и сохранять вежливое выражение на лице. Он был хорошо воспитанным родителями мальчиком, просто никогда не видел таких огромных коммуналок. Когда растворилась нужная ему дверь, он не удержался и воскликнул стоящей на пороге девушке в голубом платье:
– Как же бедно вы живете!
Он даже не сразу узнал в ней свою подругу, ведь тоже привык видеть ее в спортивных костюмах. И уж конечно, не хотел никого обидеть. Он просто открыл для себя новый мир и поделился своим знанием, как если бы долго шел среди бескрайних белых льдов и внезапно увидел землю Санникова.
Потом он сказал много хороших слов, ведь он был воспитанным мальчиком, подарил маме Зине коробку конфет и пригласил девушку в голубом платье в кафе-мороженое. Они шли, взявшись за руки, о чем-то говорили, но это уже не имело никакого значения.
Она знала, что живет бедно, но впервые ей сказали об этом в лоб, без обиняков, как само собой разумеющееся. Она водила ложкой по розетке с мороженым и мечтала только об одном: скорее вернуться в интернат, снять каблуки и ненавистное платье, вбежать в спортзал, пройтись по нему на руках, а потом с головой окунуться в пахнущую хлоркой воду, которая нужна ей больше, чем воздух.
Было еще несколько писем, на которые она не ответила. А может, он не ответил. Или не было вовсе этих писем.
Ия скептически относилась к истории про неудавшуюся Золушку, считая ее еще одной байкой Петроградской стороны.
Много позже, листая журнал с программой телепередач, она наткнулась на фотографию сына певца и актера. Он снял фильм о давно умершем отце и теперь давал интервью. На вопрос о первой любви ответил, что случилась она еще в школьные годы. Жила его любовь в Петербурге, и он до сих пор помнит название улицы: Большая Пушкарская.
Ия побежала показывать журнал Папочке: смотри-ка, а ведь и правда! Но откровения и фото в журнале не вызвали у него никаких эмоций.

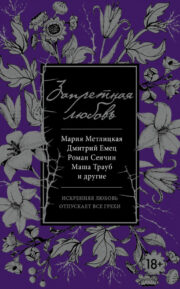
"Запретная любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Запретная любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Запретная любовь" друзьям в соцсетях.