Дама встала и подняла на меня свои огромные голубые глаза — она была даже ниже меня ростом.
— Вы так думаете? — дрожащим голосом спросила она.
Я поняла, что она боится меня! Или притворяется, что боится.
— Разумеется, — сказала я. Никогда мне не удавалось порадовать своего отца, а теперь он нежно улыбался мне.
— Я так рада, — пискнула дама.
— Ну вот! — воскликнул отец. — Я же говорил, что бояться нечего, ведь так?
— Да, Тедди, ты говорил.
Тедди? Вот это новость. Тедди! Какая нелепость! Но больше всего меня поразило, что отцу это нравилось! Что за чудо совершила эта куколка?
— И я оказался прав.
— Тедди, дорогой, ты сам знаешь, что ты — всегда прав.
Она улыбнулась, показав ямочки на щеках, и он улыбнулся ей в ответ, глядя на нее так, словно она была чудом света. Мне казалось, что я попала в один из своих снов: они были так счастливы друг с другом, что позволили частичке своего блаженства излиться и на меня.
— Ты удивлена…Хэрриет. — Он словно застеснялся, произнося мое имя.
— Я понятия не имела… Это для меня такой сюрприз.
— Ты не предупредил ее! О, Тедди, какой же ты непослушный! Я ведь действительно мачеха. Ты представь только! Считается, что мачехи — ужасные создания.
— Но вы наверняка будете доброй мачехой, — сказала я.
Похоже, отца тронули мои слова. И я подумала: как же могло случиться, что я совсем не знала его раньше?
— Спасибо тебе…Хэрриет.
Отец всякий раз делал паузу, прежде чем произнести мое имя, словно боялся его выговорить.
— Вот уж действительно мачеха! — воскликнул он. — Ты старше Хэрриет на шесть лет.
Она слегка надулась и сказала:
— Ну, я изо всех сил постараюсь быть хорошей мачехой.
— На самом деле, — заметила я, — я уже взрослая, и мне не нужна мачеха, так что лучше вместо этого станем друзьями.
Дама в экстазе всплеснула руками, а мой отец выглядел польщенным.
— У вас будет время получше узнать друг друга, пока у Хэрриет каникулы, — сказал он.
— Это, — провозгласила Дженни, — просто чудесно.
Оказавшись в своей комнате, я закрыла дверь и осмотрелась, ожидая, что и здесь все изменилось. Но тут все осталось по-прежнему: те же стены, которые видели так много моих детских страданий; сюда я пришла, подслушав те жестокие слова тети Клариссы, и строила планы побега; здесь я частенько плакала перед сном, потому что искренне считала, что я — уродлива и никто меня не любит. Здесь же висела картина с изображением мученицы, которая всегда меня пугала, когда я была маленькой: молодая женщина, по грудь в воде, прибита к столбу; ее руки связаны вместе так, словно она молится, а глаза устремлены к небу. Зачастую эта картина становилась причиной моих ночных кошмаров, пока Фанни не объяснила мне, что женщина на картине счастлива умереть, потому что она умирает за свою веру, и что скоро, когда поднимется прилив, все будет кончено, потому что вода покроет ее с головой. Остались на месте и маленький книжный шкаф со старыми книжками, которые я в детстве так любила, и даже копилка, из которой я вытряхивала шиллинги и шестипенсовики, чтобы купить билет в Корнуолл. Это была все та же комната, где меня держали на хлебе и воде в наказание за очередной проступок и где я старательно учила задания или переписывала строчки из Шекспира в качестве епитимьи.
Та же комната — но дом стал другим. Печали моего отца, тоска, терзавшая его на протяжении многих лет, которые окутывали все здесь, словно спали — или, точнее, их сорвали и отбросили ловкие пальчики легкомысленного вида девушки, похожей на кусок торта, которая была моей мачехой.
Я принялась изучать свое отражение в зеркале на туалетном столике. Да, я изменилась. Те крупицы доброты, которые перепали мне от отца, разгладили привычную складку между бровей. Я пообещала себе, что постараюсь выглядеть более привлекательной. Гвеннан была права, когда говорила, что я сама напоминаю людям о том, что некрасива, — собственным отношением к себе и к ним.
Я радовалась счастью других. Я начала верить, что могу изменить себя, ибо увидела, как изменился отец с появлением Дженни. Это было поразительное открытие.
Проходили дни, а мое изумление только росло. Отец не то чтобы допускал меня в круг их взаимных привязанностей, но, во всяком случае, не хотел совсем закрывать его от меня. Похоже, для полного счастья ему требовалось, чтобы я приняла Дженни, а Дженни — меня. Полагаю, что прежняя Хэрриет — обиженный ребенок, которым я была, — могла бы отказать ему в том, чего он так хотел. Но с тех пор, как я танцевала на балу в платье цвета топаза, с тех пор, как Бевил ясно дал мне понять, что находит меня привлекательной, я изменилась. Сердце мое смягчилось, я уже не жаждала мести, а, наоборот, желала нравиться.
Поэтому я подружилась с Дженни.
Теперь обеды, в которых участвовали я, Уильям Листер, папа и его новая жена, проходили совсем по-другому. Беседа текла более свободно; теперь ни я, ни Уильям не боялись сказать что-нибудь не то. Дженни умело поддерживала разговор, и всякая ее фраза встречала одобрительную улыбку ее мужа.
Они частенько ходили в театр — для отца это было внове, он никогда раньше не тратил времени на подобные развлечения; но Дженни их просто обожала. Она в продолжение всего ужина могла щебетать о каком-нибудь спектакле, который она посмотрела или собирается посмотреть, и об актерах, от которых она была без ума. Папа слушал и вскоре запомнил многое из того, что она рассказывала ему о разных актерах и актрисах, поэтому ему не составляло труда поддерживать разговор.
Однажды отец объявил:
— Я хочу сказать тебе пару слов, Хэрриет. Пойдем в библиотеку.
Я последовала за ним. Он сел и, жестом повелев мне, чтобы я села тоже, посмотрел на меня с тем холодным презрением, которое так глубоко ранило меня раньше, пока в нашем доме не появилась Дженни. Так, значит, он терпел меня, только когда она была рядом. Уверенность, защищавшая меня как броня, на деле оказалась хрупкой раковиной, готовой треснуть при первом прикосновении. Я снова почувствовала себя уродиной, и это ощущение было еще горше оттого, что я не сомневалась: он сейчас сравнивает меня со своей маленькой, изящной Дженни.
— Я думал о твоем образовании, — сообщил он.
Я кивнула, и он посмотрел на меня с раздражением.
— Прояви же хоть какой-то интерес, — бросил он.
— Я… мне очень интересно, — сказала я.
— Допустим. Я решил, что пришло время забрать тебя из пансиона. Но тебе, разумеется, еще рано выходить в свет. Твоя тетя Кларисса обещала обо всем позаботиться, но пока ты никоим образом к этому не готова. Сколько тебе лет?
Он не помнил! Он помнил о том, что Дженни любит, чтобы конфетки были перевязаны розовой ленточкой, но не помнил, сколько лет его дочери. Но возможно, он только притворялся, ибо наверняка должен был помнить тот день, который стал самым трагическим в его жизни, — день, когда он получил рану, не заживавшую столько лет, пока он не встретил Дженни, которая сделала из него другого человека.
— Шестнадцать с половиной.
— Это — немного рано. Наверное, следовало бы подождать, пока тебе не исполнится хотя бы семнадцать, а потом отправить тебя на пару лет за границу. Но с другой стороны, я не вижу причины, почему бы тебе не поехать сейчас. В школе о тебе отзываются неплохо. Конечно, успехи могли быть и больше, но для тебя это вполне нормально. Родители Гвеннан Менфрей, похоже, вполне довольны школой, куда они ее отдали. Я полагаю, она вполне подойдет и для тебя. Так что в Челтнем ты не вернешься.
В душе я ликовала. Скоро мы с Гвеннан опять будем вместе! Лучшего не приходилось и желать — разве что оказаться в Менфрее.
— Эта школа находится неподалеку от Тура, — продолжал отец. Как будто я этого не знала! — Посмотрим, насколько пребывание там окажется полезно для тебя, для начала ты поедешь туда, ну, скажем, на…полгода, и если это меня удовлетворит, ты останешься там на год, возможно, на два.
— Да, папа, — сказала я.
Он кивнул, отпуская меня, и я двинулась к двери, всем своим существом ощущая, как я ужасно хромаю.
После этого случая я поняла, как нам нужна Дженни. Исчезни она, и прежние взаимоотношения между мною и отцом тут же вернутся. Это открытие меня сильно опечалило, но горечь его немного искупалась предстоящей встречей с Гвеннан.
В тот вечер отец и Дженни собирались в театр. Уильям Листер рассказал мне, как трудно было достать билеты, но он все-таки их добыл, ибо леди Делвани очень хотелось увидеть эту постановку. Теперь покупать театральные билеты входило в его обязанности.
За обедом, который из-за похода в театр подали на час раньше, Дженни выглядела еще очаровательней, нежели всегда. Она была в платье из розовато-лилового шифона на зеленом атласном чехле, и я вынуждена была признаться себе, что смотрелось это просто потрясающе; а пышные волосы, собранные в высокий пучок, придавали ей вид еще более ребячливый, чем обычно. Отец, как мне показалось, выпил больше обычного, и Дженни всячески пыталась выказать свою озабоченность по этому поводу.
— Но, Тедди, я серьезно. Если твоей бедной голове не лучше, я буду настаивать, чтобы мы никуда не ехали.
— Ничего страшного, любовь моя, совсем ничего, — убеждал ее он.
Дженни повернулась ко мне:
— Знаешь, Хэрриет, сегодня днем у него так ужасно болела голова. Я заставила его отдохнуть и смочила ему лоб своим одеколоном. Это — просто чудесное средство. Мне оно всегда помогает, когда я устану. Если тебе когда-нибудь понадобится, Хэрриет…
— Спасибо, у меня очень редко болит голова.
— Ну конечно, ты совсем юная… Но, Тедди, тебе надо быть осмотрительней. Если твоя голова не прошла совершенно — никаких спектаклей.
Отец ласково улыбнулся ей и заявил, что она своими чарами прогнала головную боль.
Я взглянула на Уильяма: мне стало интересно, что он думает обо всех этих любовных играх. Он был так же смущен, как и я.

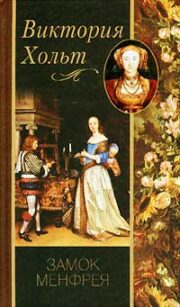
"Замок Менфрея" отзывы
Отзывы читателей о книге "Замок Менфрея". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Замок Менфрея" друзьям в соцсетях.