Они оба рассмеялись.
– Я должен идти, я оставался здесь постыдно долго, – сказал Гиз.
– Вы должны прийти опять, – возразила Сара, – и в следующий раз вы должны закончить сентенцию, которую начали сегодня. Вы не можете ссылаться на то, что вам не хватает слов, так как Адриен рассказывал мне, какие блестящие речи произносите вы на суде.
– А! Но там адвокату нужно только иметь язык, чтобы произносить речи. Иное дело говорить с женщиной – для этого надо обладать речью ангелов.
– Хорошо, что существует два сорта мужчин, иначе большинство женщин погибли бы от скуки, – сказала Сара, сверкнув на него глазами. – Ну, прощайте, до свидания, наконец!
Он ушел, и только отзвук их обоюдного смеха сохранялся еще несколько минут после его ухода.
Сара прошлась по комнате, бесцельно притрагиваясь то там, то сям к разным вещам: она поправила подушку, подвинула чашку, стоящую на краю стола, и подняла упавший цветок…
Внезапно она увидала себя в одном из больших зеркал в позолоченной раме. Ее собственная фигура, выделяющаяся на фоне прозрачного вечернего неба, видневшегося в открытом окне, и на окружающих белых стенах комнаты, показалась ей довольно привлекательной. Она подошла вплотную к зеркалу и посмотрела на комнату, отразившуюся в нем, как будто видела ее впервые. Затем она перевела взор на свою собственную, тонкую, стройную фигуру в белом, на нитку жемчуга, надетую на ней, бриллиантовые шпильки в волосах, на все бесчисленные детали своего туалета, отражавшие свет.
Она знала, что прекрасна, как это знают обыкновенно все красивые женщины, но она уже привыкла к этой мысли и относилась спокойно к этому факту.
Она слишком долго жила в свете, где красота женщины была необходимостью и где совершенно открыто и с интересом обсуждали ее, поэтому и не чувствовала никакого самодовольства. В ее жизни красота была стержнем мироздания, и она знала это.
Ее мать была красавицей и даже теперь еще могла похвастаться тем, что выглядит эффектнее дочери. Это был другой факт, который способствовал развитию скромности у Сары. Но она радовалась тому, что была красива, и в двадцать пять лет оставалась настолько ребенком, что ее огорчало малейшее пятнышко на лице. Однако в обычном смысле она не была тщеславна; она ничем бы не пожертвовала ради своей наружности, не подвергала себя никогда никакой бессмысленной диете и не расстраивала себя никакими тревожными мыслями.
И вот, внезапно, сидя здесь в одиночестве в этой огромной комнате, она почувствовала страстное желание, чтобы кто-нибудь вошел и властно заключил ее в свои объятия, сказав: «Дорогая, как ты прелестна!» Она насмешливо усмехнулась при этой мысли и старалась позабавиться над своей сентиментальностью, считать это театральным позированием, но в глубине своего сердца она знала, что это желание было реальным.
Как ужасно, что для счастья нужны такие мелочи! Нужно, чтобы кто-нибудь вошел и сказал: «Как ты красива!», чтобы можно было вместе смеяться, с кем-нибудь спорить, на кого-нибудь смотреть и кому-нибудь принадлежать, – хотя это уже нельзя причислить к категории мелочей. И вдруг она вспомнила, как Коти пришел однажды, топая ногами от холода, с посиневшим, темным лицом, но с блестящими глазами, и крикнул ей со своей обычной манерой:
– Как чудесно, что есть кто-то, к кому можно вернуться! Для этого стоит жениться…
И он сказал ей в этот вечер, прежде чем идти на «блестящее сборище бездельников», как он назвал холостые обеды, что очень много мужчин только и женятся для того, чтобы было к кому прийти.
– Так скверно приходить вечером и не находить никого! – рассуждал он. – Одиночество – своего рода ад, и если дорога, ведущая в ад, вымощена добрыми намерениями, то параллельно с нею идет дорога к одиночеству.
О, если б она могла опять услышать этот добрый хриплый голос! Но она больше не услышит его никогда! Он умолк навсегда, члены его стали неподвижны, и его быстрые блестящие глаза потускнели. Только за тяжелыми ресницами, быть может, еще что-нибудь жило и двигалось.
Лукан сказал: «Нет!», но Коти был таким оптимистом всегда, таким жизнерадостным, что Сара не могла поверить, что мозг, так любивший жизнь, перестал ее ощущать.
В комнату вошел слуга, чтобы убрать чайный поднос. Сара повернулась и быстро вышла.
Ее горничная-англичанка, служившая у ее матери за повариху, дворецкого, портного и главного советника в маленьком мрачном домике на Керцон-стрит, последовала за нею в Париж. Леди Диана, несмотря на то что ценила эту женщину и ее бесспорную преданность, отпустила ее, пожимая плечами и говоря: «Ну что ж, если Гак предпочитает Сару, то пусть она уходит к ней. Можно долго держать у себя лучшего слугу, но никогда нельзя знать, когда он вас покинет».
Сара надлежащим образом поблагодарила свою мать и заключила на момент костлявую фигуру Гак в свои объятия.
У этой женщины были две характерные особенности, которыми она хвасталась: во-первых, она отказывалась учиться говорить по-французски, а во-вторых, она особенно забавно сокращала некоторые слова. Но слушатель, который освоился с этими особенностями ее произношения, находил ее разговор подчас весьма остроумным и интересным.
Гак была очень высока, очень худа, рот у нее был большой, но зубы прекрасные.
– Вы опоздаете, миледи, – сказала Гак, поклонившись Саре. – Вам придется сократить чтение его сиятельству.
– Никогда, – прошептала рассеянно Сара, отдаваясь в искусные руки своей горничной.
Сара произнесла это по-французски, и Гак, услышав иностранный язык, проговорила агрессивным тоном:
– Извините, миледи…
– Как мне хотелось, чтоб ему стало лучше! Но Лукан говорит, что новое лечение не принесло пользы, – сказала Сара по-английски, будто извиняясь ей в ответ.
– Я могла предсказать ему это, – заметила Гак презрительно. – Так будет и с другими способами, миледи. Я нахожу, что это стыдно – пробовать эти новые способы на бедном господине.
– Никаких новых опытов не будет, – тихо ответила Сара.
– Как прошел ваш званый вечер сегодня, миледи?
– Кажется, хорошо… Благодарю вас, Гак. Только все эти собрания становятся как-то очень похожи друг на друга.
– Вообще-то сходство можно найти между многими вещами, я думаю, – сухо заметила Гак, втыкая в волосы Сары черепаховую шпильку, украшенную бриллиантами. – Мне кажется, если вы философ, то легко сравните разнообразные явления. Мы все рождаемся и все умираем, а в промежутке все влюбляемся, более или менее согласно с нашей природой, и все мы находим для себя других людей в спутники, смею сказать, и нас находят тоже, своим чередом. Когда вы действительно задумаетесь над жизнью, то вам покажется забавным интерес, который люди находят в ней, потому что все мы едим, спим, разговариваем, работаем, ссоримся, целуемся, и так без конца! Мне смешно читать о людях, которые ищут приключений. Ничего нового не найдешь, даже если будешь терпеливо искать.
– Бывают случайности, – засмеялась Сара.
– Я только что хотела сказать это, – с достоинством возразила Гак.
Она ловко, одним движением, надела на Сару через голову юбку из серебристой ткани с волнами из легкого, как пена, шифона.
– Ты что-то принарядила меня сегодня вечером, не правда ли? – спросила Сара, точно удивляясь этому.
– Вы сказали мне, что будут танцы в опере, а по-моему, в оперу надо надевать что-нибудь особенно изысканное, – с твердостью возразила Гак. – Я уверена, мисс Сара, что вы будете в этом наряде так хороши, как картинка.
Сара на мгновение представила себе, как она выглядит в своем изящном туалете, в парчовых башмачках, шелковых чулках, в платье из нежной, тонкой материи, с венцом блестящих волос на голове и нитями жемчуга, ниспадающими на юбку и мерцающими, словно лучи лунного света.
– Дайте мне бархатный красный плащ, Гак, – сказала она. – Хорошо. Дайте мне перчатки. Я пойду в комнату графа в этом наряде. Во время чтения я могу спустить плащ… Знаете, ведь сегодня чудесный вечер! Заметили ли вы, как ярко сияют огни в эти весенние ночи и как ясно слышны все звуки?..
– Смотрите не простудитесь, миледи, – наклоняясь в открытое окно, настаивала Гак. – Я знаю только одно, что в эти весенние ночи легко можно схватить простуду, как бы ярко ни сияли огни и как бы ясно ни раздавались звуки в ночной тиши. И это факт!
Сара рассмеялась и сейчас же отошла от окна.
– Не сидите долго, милая Гак. Я вернусь, вероятно, очень поздно. Доброй ночи.
– Желаю вам веселиться, – ответила Гак и несколько минут стояла неподвижно и смотрела на удаляющуюся по коридору высокую, стройную фигуру своей госпожи.
Двери в покои, занимаемые хозяином дома, оставались всегда открытыми. Сара отдала такое распоряжение под влиянием странного, чисто детского страха, что Коти может вдруг почувствовать, что он заперт, и страдать от сознания, что он отделен от всех, не будучи в состоянии выразить этого никак.
Когда она прошла через первую комнату и вошла в спальню Коти, то его лакей поднялся со стула, на котором он сидел возле окна. Это был маленького роста, гладко выбритый, опрятный человек. Он обратился к Саре:
– Могу я поговорить с вами, миледи?
– Конечно, Франсуа.
Она прошла в маленькую гостиную, и он последовал за нею, заперев за собой дверь.
Никогда в течение этих двух лет Франсуа не рисковал тем, что Коти может услышать что-нибудь такое, что причинит ему страдание, и никогда в его присутствии не позволял себе даже на одно мгновение выразить на своем лице печаль, уныние или страх; теперь его трогательно преданные, как у собаки, глаза с тревогой смотрели на Сару.
– Доктор не питает никаких надежд на новое лечение? – спросил он.
– Никаких, Франсуа.
Он издал губами какой-то слабый звук и проговорил:
– Благодарю вас, миледи… Газеты все выложены мною. Останетесь ли вы тут час, как обычно, или вы спешите сегодня?
– Нет, я останусь. Вы не торопитесь возвращаться, Франсуа. Гак придет сюда, когда я уйду. Или она, или я, мы останемся с сиделкой до вашего возвращения.

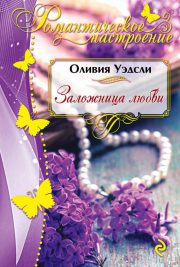
"Заложница любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Заложница любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Заложница любви" друзьям в соцсетях.