А Ленка хотела. Причем не просто выкарабкаться, чтобы потом втихомолку мусолить и захлебываться, ей необходимо было выйти из своей беды целой и желательно невредимой. Хотя бы психически.
«Во что бы то ни стало!», «Назло всем, кто рано радовался!», «Не сдамся, суки, не дождетесь!», «У меня вся жизнь впереди!», «Я сильная, я смогу!» Если не лениться и повторять эти и другие подобные слоганы хотя бы по три раза в день, то они обязательно сработают. У кого-то раньше, у кого-то позже.
Ленке повезло. Она оказалась из тех, у кого раньше. Ни один труд, как говорится, не проходит мимо. Что-то от себя оставит, что-то изменит, что-то повредит. Повредит – в хорошем смысле слова. Например, оболочку. Или скорлупу. Или еще какой-нибудь мерзкий футляр, в глубине которого погребена скрипка. А без притока свежего воздуха этой тихой певунье никак нельзя, явные регрессирующие изменения могут доконать ее до состояния пыли.
Поэтому – вставай и иди!
Как-то незаметно к концу ноября Ленка неожиданно для себя поняла, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. И жить, как ни странно, хочется, и желательно – разнообразно, и совсем было бы хорошо, если не одной.
Все это время она изо всех сил пыталась выбросить из головы Малыша, но однажды утром проснулась и подумала: а зачем?
Ну случилось такое! Ну не повезло! Летела пуля. Она же дура! Она же не вникает в то, что творит! Почему же и мы должны ей уподобляться и разрушать то малое, что еще теплится, что еще греет, а порой даже и жжет?
За стеной еле слышно играла музыка. Ленка узнала знакомую мелодию и стала припоминать слова. «Падает снег, падает снег...» Она поднялась с постели и подошла к окну. От всамделишного, самого первого, самого чистого снега на улице было светло и как-то по-особому празднично. Ленка открыла форточку и сделала один, но очень глубокий вдох. От свежести, наполнившей легкие, что-то больно сдавило в груди, но тут же и отпустило.
Жизнь продолжается, господа присяжные заседатели. Если даже снег тронулся, то нам, грешным, и сам бог велел.
Ленка приняла душ, высушила феном волосы, слегка подкрасилась, оделась и в начале одиннадцатого вышла из дома, еще четко не зная, куда ее понесут ноги и зачем.
Ноги, они, конечно, тупые. Безмозглые, прямо скажем, ноги. Но надо отдать им должное, дорогу они долго не искали. Уже в половине двенадцатого Ленка стояла у знакомого подъезда и высматривала знакомые окна.
Войти в подъезд она не решалась, да и номер квартиры не помнила, а тут еще домофон какой-то навороченный. И надо было бы уже уходить, но ноги – опять эти ноги! – не слушались.
Ну что я ему скажу? Что он скажет мне? Немая сцена. Возвращение блудного Карлсона. Мы вас не ждали – а мы тут как тут. А если его нет дома? А если, что еще хуже, он дома, но не один? И что тогда? Тогда ничего, просто кубарем с лестницы, типа квартирой ошиблась, мне надо этажом выше, у меня там знакомый стоматолог живет. Почему стоматолог, а не гинеколог, например? Потому что разболелись зубы. Все скопом. А еще челюсть. И ноги заодно, идиотки. А если он все-таки один? Что я ему скажу? Да надо ли что-нибудь говорить? Просто поглядеть в глаза, и сразу все станет ясно. Быть вместе нам или не быть... Лучше быть, но получится ли после всего того, что произошло? Есть ли в этом какой-нибудь смысл, знак, напоминание? Но он же ничего не знает. И не узнает никогда. Это только мой несчастный случай, мой и ничей больше. И я сама справлюсь. И даже справляюсь уже. Как это мама сказала: может, так и надо, может, так и должно быть? Одно совершенно ясно: то, чего уже нельзя исправить, необходимо забыть. Забыть? Забыть!
Ленка, наверное, еще долго бы так простояла, но неожиданно дверь подъезда открылась, и прямо на нее вылетела собака. Сама ситуация заставляла Ленку бежать прочь, но она, наоборот, рванула в сторону еще не успевшей захлопнуться двери и влетела как раз вовремя. С улицы доносился обиженный собачий лай, но Ленка уже наугад тыкала пальцем в стершиеся кнопки лифта.
Глава 9
Пока доехали до города, Курочкину совсем развезло. Ленке пришлось просить помощи у Эдика, чтобы без особых потерь дотащить ее от автобуса до гостиницы.
Эдик на глазах изумленной публики взвалил Любку на плечо и легко, как Ленин на субботнике, понес бездыханное бревнышко через всю площадь.
В номере он осторожно сгрузил Любку на кровать и тут же ретировался.
Ленка сняла с Курочкиной кроссовки, стянула джинсы и для надежности накрыла ее двумя одеялами. Сама тоже разделась и пошла в душ.
Умной женщине, заботящейся о своем здоровье, никогда не придет в голову валяться на холодной земле сентября, чего не скажешь об остальных. Водка, конечно, может подкорректировать ситуацию, но ненадолго. Ленка стояла под горячими струями воды и бормотала себе под нос что-то успокоительное: Боль была, будет быль, боль была, будет быль, боль была, будет быль, быль была, будет боль...
И все-таки спасибо тебе, Игореша. Что бы я без тебя делала? Легкий, звенящий на миру кайф гораздо лучше одинокой комы холодильника. Можно общаться с людьми, слушать их интересные, порой захватывающие дух истории, делиться своим, довольно оригинальным опытом, сравнивать степень собственного идиотизма с чужим, чувствовать на себе чье-то пристальное внимание и принимать его за чистую монету, поддаваться на искренние слова и зоркие плутовские взгляды, отмахиваться, отмалчиваться, отшучиваться, отнекиваться, снисходить и парить над, прибедняться и опускаться ниц – в общем, существовать как-то в социуме и тешить в себе иллюзию полноценности бытия.
Боль была, будет быль, только мне невтерпеж, ты меня не любил, и особенно в дождь... Ты один, ночь бела, занемело плечо, где я раньше была, там еще горячо...
Из «были» хорошо выковыриваются строки и складываются в неизлечимо больные стихи. Все поэты – мазохисты и патологоанатомы. Так и норовят «отнять аромат у живого цветка» и начать его разделку на непогрешимо белой простыне бумаги. Разве способны они на всамделишную, пусть нищую на слова и убогую на мысли, зато свободную от стихоплетства любовь? А нужна ли она им такая пресная, немая и такая безысходно сирая? Без обязательных обильных слез, без ночных сухогорлых томлений, без воспаленных немеркнущих глаз, без ожесточенных умственных мастурбаций, без выхаркнутых фонтанов слов и снов, всегда вещих и умопомрачительных?
Тоска зеленая, господа! Не проходите мимо, бросьте хоть гривенник поэту на пропитание. Если у вас самих не хватает замысловато-пикантного подтверждения вашим сердечным страданиям, обращайтесь к нам. Они есть у нас! Мы вам поможем как сможем! Мы вас не подведем! Мы постараемся! Напишем! И вот уже... Я чувствую прилив свободного дыханья! Держите меня! Я к вам пишу! Чего уж боле! Что я могу? Еще? Сказать? И не в моей, а в вашей воле меня... как липку общипать? Или на деньги променять? Или со свечкой постоять? Или могилку раскопать? Или на части разодрать? Или... Бесконечное, как горизонтальная восьмерка, «или». Все зависит от конкретной ситуации, от приказа собственного («не продается вдохновенье...») или заказа чужого («...но можно рукопись продать»).
И вот снова! Я к вам пишу про то, как: любовь уходит по-английски, ее уход непостижим, и так недавно самый близкий становится совсем чужим... Так исчезает постепенно рисунок четкий на песке, и на запястьях вздулись вены, и жизнь моя на волоске...
В дверь ванной нахально и требовательно забарабанили.
Ленка, завернувшись в короткое, едва прикрывающее ее монументальные прелести полотенце, вышла на берег и сразу попала в крепкие дружеские объятия Серого.
– Где ты пропадала? – спросил он, не выпуская Ленку из рук.
– Стучаться надо, когда заходишь! – недовольно проворчала она, пытаясь высвободиться.
– А я разве не постучался?
– Стучаться надо в дверь номера, а не ванной.
– Так у вас дверь настежь открыта – бери какую хочешь, – засмеялся Серый.
– Хотеть – не значит мочь. – Ленка, чуть не уронив полотенце, оттолкнула его и спряталась за дверцу шкафа. – И вообще, отвернись, мне надо одеться.
– Одевайся, только побыстрей, – как ни в чем не бывало сказал Серый. – Через двадцать минут начало представления.
– А я что там забыла?
– Не знаю, что ты там забыла, только Игорь тебя повсюду ищет.
– Ну если только Игорь... – глухо проговорила Ленка, натягивая на себя свитер.
– А что с Курочкиной? – поинтересовался Серый.
– Спит смертью пьяных.
– Ей помощь не нужна?
– Думаю, нет.
– Тогда пошли?
– Как будто у меня есть выбор...
На открытой площадке зеленого театра уже было негде яблоку упасть.
Серый и Ленка с трудом нашли два места рядом, и то только после того, как одна влюбленная парочка легко вспорхнула со скамьи и унеслась в неизвестном направлении. Ленка огляделась и не увидела вокруг себя ни одного знакомого лица. Рядом зажигала местная продвинутая молодежь, бабульки, сбежавшиеся со всей округи, с аппетитом клевали семечки, а между всеми ними сновали громкие, не поддающиеся угомону дети. Атмосфера праздника и общей набирающей силу эйфории витала в воздухе и объединяла всех в одну большую, дружную семью.
Невольно общее настроение передалось и Ленке, и она уже с нескрываемым интересом стала следить за происходящим.
В первых рядах за длинным накрытым красной скатертью столом восседало жюри. Как в лучшие пионерские годы, подумала Ленка, только почетного караула не хватает. Она привстала и среди разнообразных женских и мужских шевелюр безошибочно угадала розовую блестящую лысину Игоря. Тот, словно почувствовав ее взгляд, тут же обернулся, поискал глазами кого-то в толпе, но Ленку в наступающей темноте так и не увидел. Как неудобно, устыдилась она, Игорь меня сюда вез, беспокоился обо мне, а я его даже ни разу за это не поблагодарила.
В зале стали раздаваться редкие одиночные хлопки, вскоре их сменили жидкие аплодисменты, потом где-то затопали ногами, где-то засмеялись, и все снова стихло.

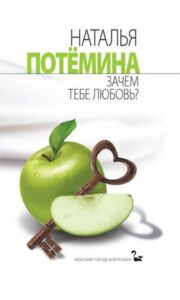
"Зачем тебе любовь?" отзывы
Отзывы читателей о книге "Зачем тебе любовь?". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Зачем тебе любовь?" друзьям в соцсетях.