Метро ее настолько испугало, что под землю она не полезла. Всем показывала конверт с теткиным адресом, над ней смеялись, говорили, что рядом, а лучше на такси или метро, но оказалось, что за это такси платить надо. И Нинка семь часов брела по Москве, расспрашивая дорогу, пока наконец не нашла свою тетку. Та встретила ее не то чтоб радостно, но спокойно... Как все это было давно!
Как давно вошла она в дом своей тетки, замученная, перепуганная, толком и не знавшая, зачем приехала, какого счастья и как искать.
Тетка Прасковья Ивановна вдохнуть в нее силы и уверенности, что все закончится хорошо, не могла.
Она усадила Нинку на кухоньке своей крошечной квартирки, поила чаем с баранками, вздыхала и, видно, больше всего боялась, что та окажется для нее долгой и тяжкой обузой.
Нинка наврала ей, что в Москву приехала просто так, от скуки и безделья и от того, что в родной деревне надоело до того, что скулы воротит.
Это тетка поняла, сама в свое время сбежала приблизительно по таким же причинам. Но жить у тетки было никак невозможно – в ее комнате умещались только деревянная кровать да шкаф, и не комната это была, не квартира, а перестроенный сортир в большом, до революции пышном, купеческом доме. Сейчас уже даже и представить было невозможно, как выглядели квартиры в первозданном виде: все было переделано, везде возведены временные стенки, а слышимость между квартирами получилась такая, что всякий чих было слышно через головы трех семей.
Прасковья вздыхала и печалилась по-старушечьи так долго, что Нинку уже тоска взяла и она решила на вокзале ночевать, но тут старуху осенило, и она воскликнула.
– Слушай, Нина! Да я ж тебя к соседке пристрою! Она одна как перст торчит, и денег у нее вечно нету, за хату свою вечно не платит, электричество у нее отключают и телефон сняли, но вообще-то бабенка тертая, москвичка коренная, от нее для тебя проку будет побольше моейного! Правда сказать, попивает она горькую, но во хмелю не буянит, а как глаза зальет, так и брякнется в кровать и спит без просыпу до пятых петухов. Я так думаю, что пару дней у нее переночуешь, присмотришься, а там, глядишь, и столкуетесь.
Теткина соседка Наталья тоже имела однокомнатную квартиру на той же лестничной площадке, но кухня у нее была здоровенная, с полдюжины раскладушек можно было поставить и еще бы место осталось.
Наталье и сорока годов не было, но выглядела она старухой, беспрерывно дымила «Беломором», а то, что попивала без меры и разума, было и без слов понятно – мутные глаза вечно слезились, щека дергалась, а одиноко торчащий изо рта зуб делал ее похожей на ведьму из детских фильмов. Но что трезвая, что пьяная – она была добрейшей души человеком, и всякое сходство с ведьмой было лишь внешним.
К тому же Нинке повезло, нашла она к соседке сразу правильный подход: достала из своего чемодана бутылку деревенского самогона и выставила его на стол в громадной и пустой кухне.
– Деревенский, соседка, не побрезгуйте. По-соседски надо познакомиться, в дружбу войти.
Наталья хмыкнула, глаза ее просветлели, и ни ломаться, ни кривляться она не стала: тут же сполоснула два стакана, достала перышки увядшего лука и горбушку хлеба, провалявшегося в столе добрую неделю, пару плавленых сырков и квас в бидоне – для запивки... Пир пошел горой.
Кухня, при всех своих размерах, была до нестерпимости грязной и запущенной, со стен обсыпалась краска, а во всех углах висела паутина.
– Так какие ветры тебя, голубка, в столицу занесли? – хитро блеснула глазом Наталья, и Нинка принялась было по привычке врать о том, что хотела бы учиться, работать, искать свою счастливую долю, но та засмеялась скрипуче и оборвала Нинку на полуслове:
– Так! Ну а теперь говори – на каком месяце брюхатая ходишь?
– Чего? – вытаращила глаза Нинка, и сердце у нее зашлось, будто она что-то срамное совершила.
– Да ничего, голубка, меня не проведешь! В Москву ты со своей деревни свалила, чтоб здесь грех покрыть, аборт сделать, вот так. И мозги мне не пудри. Ладно, считай, что ты в хорошую компанию попала, повесят нас на одной перекладине. Тетка твоя – фуфло. Знаешь, что она деньги в рост под проценты дает?
– Нет, – потерялась Нинка.
– Ну так знай. Считай, ей половина дома должны, а уж я так бессчетно у нее в долгу, что и отдавать не буду, потому как и не знаю сколько. Она тебя ко мне на постой направила?
– Да так... Сказала, что можно поговорить.
– Можно, – согласилась Наталья. – Место у меня на кухне есть, как видишь. Квартплаты я с тебя пока брать не буду. Пока не вычистишься от своего плода да на работу не устроишься. Самогонку такую делать умеешь? – Она с почтением кивнула на бутылку, которую привезла Нинка.
– Умею. Только аппарата нету.
– Аппарат я куплю. Невелик труд. Дрожжи я совсем по дешевке доставать стану, ну а сахар можно брать у моей сестры, за что ей будет положена каждая третья бутылка. Она в столовой работает, я тебя с ней познакомлю, потому что для тебя тоже – человек полезный, не то что твоя выжига-тетка, чтоб она сдохла. Вот так и будем жить: сыты, пьяны и нос в табаке.
– Но ведь кушать тоже надо! – робко испугалась Нинка.
– Надо, – равнодушно согласилась та. – С голоду не помрем, не волнуйся. Так сколько уже недель у тебя в животе?
Недель насчиталось много, чересчур много. Наталья озабоченно покачала головой и сказала, что тянуть нельзя.
– А больно будет? – не скрывая страха, спросила Нинка.
– Терпимо. Ты молодая, сдюжишь.
Но Нинка не сдюжила. Врач, который, может, и был врачом в ту пору, когда она только родилась, пришел прямо на кухню с портфелем, вытащил свои инструменты и принялся за дело.
Нинка видела, что и руки у старика тряслись, и сизый нос картошкой дрожал, и очки с носа падали прямо ей на ноги. Боль была непереносимой, и как она удержалась, чтоб не орать благим матом, и сама не понимала. Кажется, несколько раз теряла сознание, но приходила в себя от резкого запаха.
После операции выпили по стакану самогона, у Нинки еще оставалась деревенская бутылка. Потом врач получил свой гонорар, как он выразился, – бутылку магазинной водки завода «Кристалл» – и ушел.
А у Нинки кровотечение не прекратилось, к вечеру поднялась температура, а живот вздулся, словно туда натолкали камней.
Она терпела, полагая, что все пройдет само собой.
Наталья к полуночи протрезвела, зашла на кухню, глянула на Нинку и без всяких слов побежала вызывать «скорую помощь».
Врач «скорой помощи» был очень молодой. Разглядев больную, он очень испугался, заявил, что это дело подсудное, кто-нибудь за это сядет в тюрьму, и сядет очень прочно, после чего Нинку забрали в больницу.
Что там с ней было, во всяком случае, в первые дни, Нинка никогда не могла вспомнить подробно – боль, уколы, снова боль, сплошной туман в голове от всяческих лекарств.
Но ни старикашку врача, искалечившего ее, ни даже соседку она не выдала. Как успели договориться с Натальей перед тем, как Нинку забрали в машину и отвезли в больницу, так Нинка всем и говорила. Приехала, мол, из деревни, решила сделать аборт, посоветовала, где сподручно сделать, одна тетка на вокзале. Дала адрес. Адреса теперь Нинка не помнит. На улице после операции потеряла сознание. Очнулась у незнакомой женщины на кухне, звали женщину Натальей. Про тетку Прасковью, понятно, ни слова.
И Наталья говорила, что подобрала Нинку на улице, истекающую кровью. В добро или во зло прошла эта ложь, осталось неизвестным.
Потом, в больнице, Нинке объяснили, что аборт можно было сделать куда как проще и спокойней, вполне нормальным и законным путем, но этот путь для нее, дуры деревенской, кажется очень стыдным и нехорошим, она захотела, чтоб никто вокруг про ее грех не знал, вот и получила, что хотела.
Но деревенская закалка спасла Нинку. Выкарабкалась. И уже через неделю прочно поселилась на кухне у Натальи, привела ее в божеский вид за пару деньков, поставила у светлой стенки напротив окна диванчик, тумбочку, и получилось жилье не хуже, чем у многих.
Наталья чувствовала себя виноватой, бегала вокруг и всячески старалась ей угодить. О покупке самогонного аппарата она разговоров больше не заводила, видимо, идея создания винокуренного завода ей в конечном счете пришлась и самой не по душе. Опять же, зачем столь много хлопот, если пришел в магазин, да и купил. Дешево и сердито.
Нинка, выслушав эту установку, сказала:
– Да, ты уж и скажешь, как в лужу пернешь! Дешево! А где ж каждый день деньги доставать?
– Ох и глупая ты у меня! – весело засмеялась Наталья, потому что они были обе уже изрядно пьяные: отмечали официальное новоселье и выздоровление.
– Да почему же глупая? – обиделась Нинка.
– Да потому что дура!
– Опять дура! Как приехала в Москву, так каждый день в дурах и хожу! И там говорят – дура, и в больнице сказали – дура. И ты теперь.
– Так оно, наверное, и есть. Но ты не бойся, поумнеешь. Москва быстро всех в норму приводит. Насчет денег на каждый день, пропитания, я тебе вот что скажу. Ты теперь живешь в Москве. Восемь миллионов жителей...
– Господи, тьма какая! – поразилась Нинка.
– Вот именно. Все Скандинавские страны – Швеция, Финляндия и еще там кто-то – все вместе и то меньше, чем в Москве. Фабрики, заводы, торговля, театры. И ты полагаешь, что в таком городище да человек не найдет себе, чтоб на каждый день кусок хлеба сшибить? Да чем его запить? Это ж смешно! Если ты не хворая, если вид у тебя приличный и если хочешь, то какую-нибудь непыльную работу на несколько часов всегда найдешь! Самые глупые да жадные из вашего приезжего брата-лимитчика, те, понятно, на стройки прутся или троллейбусы-трамваи водят, а то и вовсе на ткацкой фабрике вкалывать подписываются. Ну, зарабатывают, понятно, однако ж за это и упираются, пока из жопы пар не пойдет. Это их доля, и хер с ними. А мне, к примеру, никогда много не надо было. Там уборщицей, тут сторожихой через двое суток на третьи, в другом месте в библиотеке читальный зал вечером подмету да раз в неделю пол вымою, и весь день свободна и пьяна, сыта и нос в табаке. Меня, Нинка, на фабрику, к станку, а того ужасней до конвейера этого, чтоб он душу из тебя человеческую выматывал, – ни в жизнь не загонишь! Это лучше сразу камень на шею да в Москву-реку.

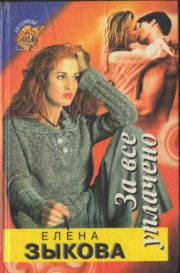
"За все уплачено" отзывы
Отзывы читателей о книге "За все уплачено". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "За все уплачено" друзьям в соцсетях.