Александр сделал вид, что не удивлен, и сказал:
— В следующий раз, сэр, когда вы будете делать это, пожалуйста, предупреждайте. Я не подопытный кролик, которого надо стеречь. Или беречь, как вам больше угодно.
Мистер Нилл взял одну из фотографий и произнес:
— Я боялся, что вы не согласитесь, и не хотел вам портить путешествие. Но в следующий раз я бы не покупал Юджинии пино-коладу. Если я не ошибаюсь, здесь она пьет пино-коладу, — и он протянул ему фотографию, — или как вам это угодно будет назвать.
Они рассмеялись одновременно. Он собрал все фотографии на столе и сказал:
— Считайте, что это подарок от меня в ваш медовый месяц. Я, скажем, знал или догадывался, что вы будете жалеть, что у вас не останется фотографий, где вы сняты вместе.
— Спасибо. Это действительно так. Мистер Нилл стал серьезным.
— Но позвал я вас не ради этой шутки, я хочу поговорить о будущем Юджинии. Я думаю, что оно тоже волнует вас?
— Больше, чем мое.
— Я рад слышать это. Именно это.
— Юджиния неплохо рисует, но ей не суждено быть великой художницей, пусть это останется ее хобби. Я думаю, вы доверяете моему мнению.
— Судя по картинам, собранным в вашем доме…
— Благодарю. К тому же я советовался с весьма известными художниками и показывал ее работы. Сам бы я не стал решать такой важный вопрос. Они хороши, ее работы, свежи и невинны. Но она не видела мира и жизни, чтобы стать великой художницей. Да и скольких мы знаем? И я надеюсь, что ни вы, ни я не собираемся отпускать ее в большой мир и оставлять нас в полном одиночестве.
Пожалуй, Александр согласился, если бы этого хотела Юджиния. — Нет, сэр.
— Безусловно, Юджиния должна идти учиться и закончить университет. Возможно, она выберет искусство, историю искусства или еще что-нибудь. Но я хотел просить вас, если вы не возражаете, чтобы этот год она провела дома и не начинала учиться. Она юна и еще успеет закончить университет. К тому же учиться она будет в Гарварде или Кембридже, на худший случай в Йеле, и вам придется уехать. А выпорхнувшие дети уже не возвращаются в родительские гнезда, никогда… И я хочу, чтобы она отдохнула после школы. Так как вы ее муж, то я решил, что должен разговаривать с вами, а не говорить напрямую с Юджинией.
Ему понравилась такая связь. Через третье лицо.
— И если вы не возражаете, так будет всегда. Он не возражал. Кому! Мистеру Ниллу, когда все было решено. И позаботились. К тому же он всегда и постоянно чувствовал, что не имеет никакого права на все это, что он здесь промежуток, который терпят, — потому что Юджиния так хочет. Он не возражал.
— Вы ей сообщите тогда о вашем решении.
— О моем?!
— Естественно, что все решения должны исходить от вас, иначе это будет задевать ее.
Феноменальная забота. Он кивнул и улыбнулся.
— Вы приглашены сегодня к нам на обед. Вы знаете?
— Мы и так все время у вас.
— Напрасно вы так думаете. Половина здания и всей недвижимости уже переписана на имя Юджинии и ваше. И вам надо доехать только до нотариуса, чтобы подписать бумаги. С моей стороны все давно подписано.
— Спасибо большое, мистер Нилл.
— Не за что. Это моя обязанность по отношению к дочери. Берегите только Юджинию.
Он никак не мог понять, что за этим кроется и почему такое тщательное внимание к слову «беречь». Носчитал неудобным спросить и все никак не спрашивал.
— Где сейчас Юджиния?
— В студии, рисует что-то.
— Я пошлю за ней, вам не стоит идти, уже время обеда.
— Я должен прийти с ней вместе, и она будет ждать меня.
— До сих пор идиллия? Это приятно. Хорошо, идите и попросите Юджинию, чтобы она не опаздывала. Мы едем в театр после обеда. Впрочем, не говорите ей, а то обидится. Она хотела сделать сюрприз, считала, что вам это очень понравится.
Пьеса называлась «Кто боится Вирджинии Вулф», и она потрясла его.
Долгую ночь он не спал, глядя на лицо Юджинии, и обдумывал пьесу снова и снова. Он подумал, что хорошо, что он не пишет драматических произведений, после Эдварда Олби он бы не коснулся пера, а пером — бумаги.
Сознавал ли Олби, что он создал? Автору подчас очень трудно оценить им созданное. Понимал ли, что три четверти пьесы были шедевром литературы XX века.
На следующий день, уже рано утром, он сидел и писал. Он знал, что не встанет из-за стола, пока не закончит эту вещь. Он уже сидел внутри нее, чувствовал сюжет, и герои повиновались. Он никогда никому не говорил, о чем он писал, не объяснял, почему он писал или не мог без этого. В послесловии к «Лолите» у Набокова Александр прочитал интересное высказывание: «Профессора литературы склонны придумывать такие проблемы, как: «К чему стремится автор?» или еще гаже: «Что хочет книга сказать?» Я же принадлежу к тем писателям, которые, задумав книгу, не имеют другой цели, чем отделаться от нес…» Он бы сказал «родить» вместо небрежного «отделаться от нес». Но маэстро, наверно, знал о глаголах немного больше. Впрочем, когда он пытался калькировать английский на русский, это не всегда получалось, не всегда звучало. Александр же хотел просто выплеснуть из себя готовое, созревшее, мучившее, освободить голову и душу, дать свободу перемалывающему мозгу, который в глубине себя уже держал и обтачивал новое дитя.
В два часа, когда вошла Юджиния, он читал. Александр не насиловал себя сверх меры, так как во второй половине дня свежесть мысли, заряд желания и энергия письма истощались. На этой точке лучше было остановиться, до следующего утра.
— А почему ты теперь читаешь «Лолиту» на английском?
— Во-первых, я чувствую себя в чем-то после-тридцатилетним стариком, соблазнившим малолетнюю девочку… и переживаю ощущения снова. — Он поцеловал ее смущающиеся губы и глаза. — Но это шутка. Я пытаюсь проследить одну вещь: Тургенев и Бунин были его любимыми писателями, так вот, отложили ли их описание любви какой-нибудь отпечаток на то, что написал Набоков? А так как оригинал он писал на английском, а мне давно пора знать этот язык, то я и осложнил себе работу, пытаясь понять английский пришельца. И об этой связи я хочу впоследствии сочинить статью.
— Ты пошлешь ее в журнал?
— Если статья получится.
— А потом ты поцелуешь меня… еще?
— Ради таких прекрасных глаз — не потом, а сейчас.
Вечером они уезжали в гости. Теперь они почти все вечера проводили вне дома, после дня рождения Клуиз у них появилось много знакомых и приятелей. Их приглашали, с ними дружили, о них заботились, их желали и звали. Были неплохие люди, интересные вечера и даже феноменальные попойки, когда Юджиния вела машину, а он спал на ее плече. Были интересные люди, и все-таки он чувствовал себя среди них чужаком, не своим, он был для них пришельцем из другой галактики и знал, что никогда не сможет раствориться в них и стать одинаковым с ними. Они были разные. И он удивлялся, что могло привлечь Юджинию и как он мог ей понравиться. Однажды он спросил ее об этом.
Она ответила шутя:
— Я слишком перечиталась русской литературы, по твоему совету. — А потом сказала с улыбкой: — И потом, мы такие разные, ты очень необычный, я не могла не влюбиться. И еще: я была удивлена и очарована тем, что волнует тебя, тебя совершенно не интересовали деньги, дома, машины, материальная жизнь, будто ты жил в другом мире. И мне захотелось в этот мир перенестись с тобой. Но сначала… я захотела тебя.
— Когда?
— Первый раз в том баре… когда двое пристали к тебе и я увидела твои глаза. И я подумала, что ты, должно быть, очень необычный. И я не ошиблась.
— А если б ошиблась?
— Я бы заставила себя полюбить тебя такого, какой ты есть. Я уже знала, что полюблю тебя. Что ты предназначен мне.
Этого было достаточно для объяснения. Он сжал ее губы своими губами, и их языки коснулись.
— Это необъяснимо словами. Высказанные слова — это только оттенки, намеки, тени. А в глубине все гораздо тоньше, — сказала она.
— Переживания души всегда были самыми трудными для выражения. Муками писателя, которые каждый преодолевал по-своему. Потому еще, что в каждое слово они вкладывали и часть своей души, если не всю душу.
Ему нравилось, как она слушала. Более внимательных испытывающих глаз он не встречал. Ему нравилось ей рассказывать, он знал, что через рассказ люди приближаются друг к другу. Но существовала еще другая близость, и в этой близости он ожидал: еще немного времени — и она станет совершенна. Все, что он накопил, знал, собрал, он вкладывал в нее, передавал, обучал, распускал…
Во сколько бы Юджиния ни засыпала, она по-прежнему вставала рано, чтобы сделать ему чай, намазать орехового масла, положить ложку джема, свернуть салфетку. И эта мелочь совсем незначительная забота — была для него дороже всего в мире. Эта была деталь, которую он ценил больше, чем само полотно. Он никогда не верил в сказанные слова, это был пустой звук, он всегда верил в штрихи, незаметные детали, в пустяки, из них, и только из них вырисовывался портрет. Создавался образ.
Каково же было его удивление, когда на следующее утро, на кухне, за столом он застал мистера Нилла. Мистер Нилл никогда не вставал поздно. Но дело было не в том.
— Я все думаю, что в этом такого особенного — есть на кухне, и почему в зал вас можно заманить только на обед? Я попробую, если вы не возражаете?
Он улыбнулся. Юджиния налила отцу кофе и сделала обычный тост с джемом из мандариновых корок. Они сидели втроем. Она напротив них. Юная леди перед двумя мужчинами. И в этом что-то было. Окончив, мистер Нилл встал и сказал:
— А в этом что-то есть…
Поблагодарил за кофе и, взглянув на Юджинию, попрощался.
Юджиния с улыбкой смотрела на Александра.
— Так ты весь дом переучишь, и они будут питаться на кухне.

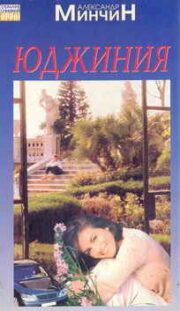
"Юджиния" отзывы
Отзывы читателей о книге "Юджиния". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Юджиния" друзьям в соцсетях.