Боб… Это имя изменило ход моих мыслей. Солнце приближалось к зениту. Скоро все отправятся на обед, а Боб так и не появился на палубе. Где он был? Что он мог делать?
Прежде всего я отправился в обеденный зал. Он был пуст.
Проходя по противоположному от нашей каюты коридору, в приоткрытую дверь я увидел сэра Арчибальда, распростертого в точно такой же камере, что и наша. Юнга протягивал ему стакан виски. Я дождался мальчика и спросил:
— Ты не видел второго лейтенанта?
Маленький малаец очень быстро ответил:
— Он несколько раз проходил здесь.
Мой интерес был возбужден не ответом, а смущенным тоном, которым он был произнесен.
— Здесь! — машинально повторил я, внимательнее осматриваясь вокруг.
Это был узкий проход, куда с одной стороны выходил бар, а с другой — две каюты. Одну занимал сэр Арчибальд, вторая была закрыта. Все точно так же, как по другому борту, где располагались мы. Я, конечно, ошибся, интерпретируя речь юнги. Для очистки совести я спросил еще раз:
— Кто живет рядом с нами?
— Никто.
— А там?
— Никто.
— Тогда почему меня поселили вместе со вторым лейтенантом?
— Господин Ван Бек спит у капитана, но у него много дел.
— А в трюме?
— Господин Ван Бек — хозяин.
Я отправился на поиски Боба, но его не было ни на палубе, ни на полуюте. Я спустился на пост экипажа, откуда неописуемая вонь немедленно меня прогнала. Приведенный в отчаяние этим нелепым исчезновением, я сходил даже в машинное отделение. Там я увидел только двух механиков-китайцев и капитана Маурициуса в блузе кочегара. Он осторожно чистил патрубок. Все металлические части уже блестели.
Огромным было мое удивление, когда я увидел на этом судне место, содержавшееся в чистоте, и я не смог удержаться, чтобы не сказать об этом капитану. Тут я во второй раз испытал удивление: Маурициус гордо и любезно улыбнулся и очень мягко произнес:
— Это, знаете ли, хорошее суденышко, и ходит оно быстрее, чем можно предположить. Мы нагнали половину вчерашнего опоздания. Вы будете в Шанхае послезавтра в назначенный час. Это хорошее суденышко, уверяю вас.
— Ах, в самом деле? — спросил я с таким глупым видом, что сам смутился.
Маурициус снова принял непроницаемое выражение лица.
Я поднялся на палубу. Там меня ждал Боб.
— Мы играли в игру „постараться не встретиться все утро", — сказал я, смеясь. — Откуда ты взялся?
— Из каюты.
— Естественно, единственное место, где…
Я замолчал, охваченный вдруг ощущением, которое не сразу смог определить. Боб выглядел как-то необычно, но что именно было в нем необычного?
Едва я задал себе этот вопрос, как ответ пришел сам собой. Боб выглядел обольстительно. Во всеоружии. Он надел самую лучшую свою форму. Он был начищен до блеска. Вот почему он так долго скрывался.
Этот тщательный туалет, должно быть, дался нелегко в нашем малюсеньком убежище. Машинально я провел рукой по своим колючим щекам и воскликнул:
— Но как ты красив! Это для сэра Арчибальда?
Боб никогда не задумывался ни над ответами, ни над поступками, и из всех его качеств меня больше всего привлекала точная быстрота его реакции. Однако на этот раз некоторое время он помедлил. В его жестоком и откровенном взгляде мелькнуло выражение недовольства и неловкости. Оно было едва уловимым, но для меня решающим: Боб что-то скрывал, вел нечестную игру.
Я еще больше уверился в этом, когда он небрежно произнес:
— Знаешь… Такая скучища, что надо же как-то убить время.
В какой-то момент я действительно чувствовал себя несчастным. Договор, связывающий нас, не допускал секретов, тем более — лжи. До сего дня мы свято его соблюдали, даже доводя откровенность до цинизма, чтобы быть уверенными, что не пренебрегаем нашим уговором. В этом, как в деньгах, как в мужестве, я целиком полагался на Боба. И вот теперь он уже не был самим собой.
Если бы я узнал, что он тайком от меня экономит, я и то страдал бы меньше.
Вероятно, он понял, что со мной происходит, — я совсем не умел владеть лицом, — так как он отвел глаза к сияющему морю и, казалось, задумался.
Я с тоской ждал, но Боб нахмурил брови, и я увидел, как вокруг его тонких губ залегла непреклонная, хорошо знакомая мне складка.
— Пойдем пропустим по стаканчику, — только и сказал он.
Я отказался.
Он пожал плечами и сказал:
— Как хочешь! А я хочу пить.
Я уверен, что Боб не настолько уж нарушил наш товарищеский договор, как я считал тогда. Он решил, — я убежден в этом, — на некоторое время оттянуть сообщение о своем открытии, а потом сам увлекся этой игрой. Но в тот день со свойственной моему возрасту и натуре экзальтированности я почувствовал, что меня предали.
В течение всего обеда, который подали немного спустя, я не заговаривал с Бобом. Я видел, что ему как будто не по себе, что он каждый раз вздрагивал, когда бой открывал дверь, что два-три раза он уже готов был задать вопрос капитану и с усилием подавлял это желание. Все это только разжигало мое любопытство, но вместе с тем и чувство горечи. Но я скорее откусил бы себе язык, чем задал вопрос тому, кого не считал больше своим товарищем. Он потерял мое доверие: все кончено. Беспощадная неподкупность моего чрезвычайно юного возраста подкреплялась для этого внутреннего решения необычайной переменчивостью чувств. И, вставая из-за стола, я испытывал к Бобу полнейшее безразличие.
Он пошел было за мной. Возможно, если бы я повернулся к нему, Боб открыл бы мне свой секрет, который тяготил его. Но я сделал вид, что не заметил этой молчаливой попытки. Все же он спросил:
— Что будешь делать?
— Спать! — ответил я грубо.
Это было правдой. В то время милостью природы любая неудача, любое разочарование вызывали у меня сонливость вплоть до головокружения. Это было средством защиты, экзорцизмом.
Я вышел, ни с кем не попрощавшись, — грубость приобретается быстро, — даже с сэром Арчибальдом, соблюдавшим в присутствии Ван Бека трусливое молчание побитой собаки.
Мне надо было лишь пройти по коридору, чтобы попасть в нашу каюту.
Рывком я скинул китель, сапоги и лег. Какое-то мгновение я хотел было снова одеться, чтобы последить за Бобом, но счел недостойной для себя роль шпиона.
„Я покажу ему, этому мерзавцу, что есть еще честные люди, — говорил я себе, — а он мне неинтересен со всеми своими тайнами лжесвидетеля, и наказанием ему будет то, что он потерял своего товарища".
Я уже начал представлять себе самые драматические обстоятельства, в которых мое пренебрежительное великодушие уничтожающе подействует на Боба, но тут меня настиг сон.
„Что делает здесь этот желтокожий чертяка? Зачем он с силой тянет меня за руку? Почему он выглядит таким взволнованным? Почему кричит?"
Такие мысли я осознал, когда сел на койке. Я еще не пришел в себя и не мог отделить мир сна от реальности.
Внезапно все встало на свои места. Передо мной стоял юнга „Яванской розы" и говорил:
— Идем… быстро идем… Если ты промедлишь, произойдет несчастье…
Когда дети упрашивают и испуганы, в их глазах всегда некий магнетизм, перед которым трудно устоять, особенно у туземцев, наделенных непревзойденной властной выразительностью.
Я ни минуты не колебался и, в чем был, подчинился маленькой, вцепившейся мне в запястье руке.
Я пробежал за юнгой через обеденный зал, и потом он выпустил мою руку.
Я стоял один перед обеими каютами правого борта. Каюта сэра Арчибальда была теперь закрыта. Вторая тоже, но за подрагивающей дверью слышались сдавленные крики.
Я попытался открыть ее. Тщетно. Однако по мягкой податливости деревянной панели я понял, что дверь удерживалась не замком, а человеком.
Я разогнался и ударил. Дверь поддалась. Я споткнулся о два рухнувших тела.
Одно из них — я сразу узнал по униформе — принадлежало Бобу.
Непроизвольно я бросился ему на помощь. У меня была только одна мысль: Боб обнаружил опасную тайну, и ему хотели отомстить.
Но внезапно моя рука, готовая уже нанести удар, обмякла. Противником Боба была женщина. Вглядевшись, на мгновение я потерял способность рассуждать: метиска из Кобе…
По какому неоспоримому признаку я сумел тогда безошибочно узнать ее? Не могу сказать. Инстинктивно, нутром. Напряженное, искаженное в судорожном сопротивлении лицо, совсем не было похожим ни на высокомерное явление в «Гранд-отеле» в Кобе, ни на застывшую статую, опирающуюся на старого куруму в агонии. Копна разметавшихся черных волос, закрывавшая лицо, смятое разорванное кимоно… обнаженные бедра… открытая наполовину вздымающаяся грудь — пойманное животное, изнемогшее, почти побежденное. Кстати, вот эти признаки и вселили в меня твердую уверенность и жгучий гнев.
Я почувствовал себя выше, шире и тяжелее, чем Боб. Ярость придала мне невероятную силу.
Я схватил Боба за шиворот, рывком сбросил его с тела, с которым он готов был слиться, сгреб его в охапку, вытащил в коридор и швырнул, как тюк. Он сильно ударился головой о переборку. Какое-то время лежал неподвижно. Но, придя в себя, с кошачьей гибкостью и ловкостью вскочил на ноги.
Дверь в каюту метиски сильно хлопнула и с лихорадочной быстротой закрылась на ключ.
С дикой ненавистью мы смотрели с Бобом друг на друга, с трудом переводя дыхание. Он чувствовал, что мог бы одолеть меня. На этот раз он сунул руку в карман, где был револьвер.
— Ну, стреляй! Стреляй же! Валяй! Ты видишь, у меня нет оружия.
Этот крик — он спас меня — вырвался не из-за инстинкта самосохранения. Напротив, я в самом деле хотел, да, именно хотел, чтобы Боб подтвердил, что он предатель.
Я хотел услышать выстрелы, почувствовать пули в своем теле. Умереть я не хотел. Тогда казалось, что ничто не могло меня убить. Но мне необходима была развязка, которая соответствовала бы моему яростному возбуждению своей беспредельностью, своей дикостью.

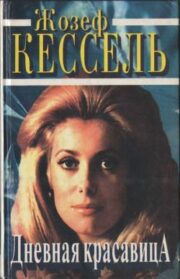
"Яванская роза" отзывы
Отзывы читателей о книге "Яванская роза". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Яванская роза" друзьям в соцсетях.