Неожиданно, бросив есть, он вытер руки и рот и поднял голову. Его взгляд как копьем пригвоздил меня к стене. Я физически ощущал, как что-то зондирует каждый уголок моего ошеломленного сознания.
— Амус! — прогремел он царским тоном.
Дети тотчас прекратили носиться, а жены замолкли.
В комнате, еще секунду назад полной разнообразных звуков, повисла тяжелая тишина.
Я смотрел на него как ребенок, знающий, что натворил что-то не то. Я не мог объяснить причину, но именно таково было мое ощущение. Вокруг нас словно никого больше не существовало, только он и я. Он — продолжавший пытливо вглядываться в меня, серьезно и бесстрастно, и я — с огромным трудом выдерживающий этот его взгляд. Наконец он заговорил.
— Франческо, ты знаешь, что означает «каданка» по-сомалийски? — спросил он меня на чистом итальянском.
Я застыл, потрясенный тем, что слышу от него слова, произнесенные на моем родном языке впервые за все время нашего знакомства. Придя в себя, я отрицательно затряс головой.
— Оно означает «белый человек». Но было время, когда в моем народе так называли итальянцев. Потому что единственные каданки, каких видели в этих краях, были колонизаторы из твоей страны, — продолжил он, слегка растягивая окончания, как африканцы всегда говорят по-итальянски. — Да, Франческо, меня прозвали Каданка, итальянец, потому что здесь я говорю на твоем языке лучше кого-либо. Я двадцать лет просидел в одной кабине грузовика с его водителем, генуэзцем, который научил меня итальянскому языку. Как и ты, он оставил все и всех и приехал сюда прожигать свою жизнь. Я был его помощником с двенадцати лет и до того самого дня, когда он свалился на госпитальную койку, сожженный туберкулезом. Незадолго до смерти он подарил мне свой старый грузовик. Не этот, другой. За двадцать лет мы сотни раз проехали через Эфиопию по солевому маршруту от Асмары до Аддис-Абебы, возвращаясь назад либо порожняком, либо, когда дела шли лучше, груженные хлопком, который везли в Массауа. А после опять ехали в Асмару и опять грузили соль. В течение двадцати лет, крутя баранку, проклиная весь свет, он говорил со мной по-итальянски, даже когда я его не понимал, больше того, именно потому, что я не понимал. Как сделал и ты. Мало-помалу я начал понимать. Сначала одно слово, затем другое, потом одну фразу, потом несколько, потом каждый глагол и каждое существительное на твоем языке. Он учил меня, поправлял все, вплоть до мелких ошибок и маленьких неточностей. Я не умею ни читать, ни писать, по-итальянски тоже, потому что в те времена здесь не было ни книг, ни газет. Моей школой стала кабина грузовика, моим учителем — тот, кто только и умел, что крутить баранку. Но я хорошо выучил твой язык. Я даже стал думать по-итальянски и иногда делаю это до сих пор. Когда я один за рулем, я даю не только свободу, но и голос своим мыслям. Уже шесть лет я езжу один, с того самого дня, как эритрейские бандиты убили моего сына. Раньше я ездил с ним, он был примерно в твоем возрасте. Он должен был занять мое место, но не успел. Я не смог защитить его, как не смог защитить мою семью. Потому что другой мой сын, со съехавшими от наркоты мозгами, сбежал из дома и теперь, должно быть, жрет ее в каком-нибудь притоне Могадишо или бог знает в каких краях. Еще двое сыновей умерли от малярии совсем маленькими. Вслед за ними я оплакал и мою первую жену, умершую при родах. Здесь, в Африке, это нормально — умирать молодыми, такое случается со многими, но те, кто остается жив, испытывают ту же боль, что и вы у себя дома, поверь. И я остался. Хотя очень хотел уехать. Уехать именно в Италию. Я мечтал о ней. Но я остался ради тех, кто был рядом со мной. И остаюсь по сей день. Я устал колесить по этим дорогам, я продал грузовик, и то немногое, что я скопил и отложил, позволит прожить весь отпущенный мне срок, а может, и дольше. В эту последнюю свою поездку я хотел, чтобы было как когда-то. Я хотел послушать итальянскую речь, не произнося ни слова в ответ, потому что итальянский язык — это голос моих воспоминаний.
Он проговорил все это монотонно, словно гипнотизируя, отпуская слова с трудом, тихим голосом, порой на генуэзском диалекте, который я разбирал с грехом пополам.
— Я знаю тебя, Франческо. Сейчас я знаю тебя лучше, чем кого-либо. Что ты делаешь здесь, в этой стране, которая не твоя, среди народа, который не твой, вдали от своих корней? Я надеялся, что мне не придется говорить об этом с тобой, и я по своей охоте не сделал бы этого, но в твоих глазах я вижу страх, растерянность и печаль. Поверь мне, Франческо, смерть не отдаляет нас от людей, которых мы теряем, она лишь иной способ жить вместе с ними. Если ты поймешь это, ты поймешь и то, насколько бессмысленно убегать, потому что она, твоя жена, внутри тебя, она живет в тебе и может жить в тебе, не доставляя боли, лишь бы ты сам не позволил ей овладеть тобой. Неужели ты думаешь, что твоя жена хочет причинить тебе боль? Она этого не хочет, послушай ее. И послушай меня: бывают моменты в жизни, когда необходимо принять решение. Ждать не означает ожидать благоприятного стечения обстоятельств. А означает отсутствие мужества. И вот еще что я скажу тебе: ты уже готов вернуться, тебе нельзя продолжать удаляться, потому что это будет означать окончательный разрыв с прошлым, и если ты не вернешься сейчас, ты не вернешься никогда, страх сделать это превратит твою жизнь в бесконечное бегство. Как случилось с моим генуэзцем и многими другими, кого я узнал на этом свете. Возвращайся к своей дочери, Франческо, не жди больше.
Сказав это, он поднялся и подал знак встать вслед за ним. Положив руки мне на плечи, он сказал строгим тоном, не допускавшим возражений, что завтра заведет мотор своего грузовика в последний раз и отвезет меня к своим друзьям в Могадишо, где я буду в безопасности, пока не подвернется самолет, которым я смогу улететь домой.
Только теперь его взгляд изменился, став по-прежнему мягким и теплым. Он погладил меня по щеке, как если бы я его сын, и попрощался:
— Иншалла[35].
— Иншалла, — ответил я.
Или, может, лишь подумал это, глядя, как он укладывается возле одной из своих двух жен и гасит слабый свет единственной горящей керосиновой лампы.
Я еще немного постоял в темноте, потом вышел из хижины и поднял глаза к звездному небу. Как будто мог разглядеть там Элизу. Постепенно чувство глубокого покоя овладело мной, словно в этом мире, во всей Вселенной остался я один. Я стоял и смотрел на звезды, царственно сверкавшие над моей головой, они сверкали бы все равно, даже если я на них бы не смотрел. В то же время я отчетливо ощущал свое исключительное право смотреть на них, как если бы, не будь меня, этих звезд не существовало бы, они сияли специально для меня, или, точнее, это я своим взглядом освещал бесконечную темноту ночи. И в это самое мгновение я пережил особенное, новое чувство, не поддающееся описанию, чувство, будто я и есть Вселенная, я часть того мира, к которому принадлежит и Элиза. Охвативший меня покой превратился во всеобъемлющую, переполнявшую меня радость. Мне показалось, что, протягивая руки к звездам, таким огромным и таким близким, что я мог бы дотянуться до них, я дотрагивался до Элизы. Я ласкал ее, я был с ней, вновь вместе с ней, пока не пришло ощущение, что настал момент проститься с ней и уйти.
Я вернулся в дом, растянулся на циновке и тотчас заснул, провалившись в сон без сновидений.
Впервые с тех пор, как покинул Милан.
XVI. Лаура
Сегодня Лаура назвала меня мамой. Подобное случалось несколько раз, я всегда ее поправляла, прося называть меня тетей, или тетей Лаурой, или просто Лаурой. Сегодня нет, сегодня я позволила ей назвать меня мамой. Она уже очень давно не произносит слова «папа», а я делаю вид что ничего не происходит.
Была минута, когда Франческо меня просто взбесил.
Когда он сказал мне, что ему обязательно надо уехать, я поняла его. Я почувствовала, что это, быть может, единственно правильный поступок, который он должен совершить в этой ситуации. Потому что, особенно в последнее время, он был уже совсем не в себе. Вместо того чтобы взять себя в руки, перебороть горе, он все больше погружался в него, и все это отражалось на девочке. Я сама попросила его привезти ее жить ко мне, поскольку он был не в состоянии ухаживать за ней. Его боль вышла за рамки переживании от утраты Элизы, что-то сломалось в нем, не знаю что, но что-то, что постепенно сжигало его душу, настолько, что он был близок к безумию и вел себя как параноик. Ему следовало бы показаться врачу, но он не хотел и слышать об этом. Всего один раз я спросила, не хотел бы он поговорить с доктором Барди, — он посмотрел на меня с такой презрительной ухмылкой, что я зареклось заводить с ним речь о врачах. Не в его характере пойти и рассказать о своих проблемах психиатру, а в том состоянии, что он пребывал, и подавно! И коль скоро он испытывал потребность уехать я подумала, что это верное решение, что ему так и надо поступить… хотя не знаю… Но я верила, что пройдет месяц, два, может быть, три, и Франческо, затеявший свою поездку исключительно ради того, чтобы побыть одному, вернется, как это с ним однажды уже было. А когда проходили дни, недели и месяцы, а он все не возвращается, я взъярилась.
Я знала подлинную причину моей ярости. Я желала, чтобы он вернулся не к Лауре, а ко мне. Я желала, чтобы он вернулся, потому что до сих пор я люблю его. Бессмысленно отрицать это. Я не переставала его любить. Доктор Барди был прав. Я поняла это после разрыва с Флавио и последовавшей депрессии. Я поняла это по окончании одной моей любовной истории, затем второй — обе закончились крахом по одной и той же причине. И этой причиной был Франческо. Из-за этого я даже не попыталась вернуться к Флавио. Раньше было иначе, раньше мне удавалось скрывать свою любовь даже от себя самой, отстраниться от нее, как формулировал Барди, сублимировать ее в ту жизнь, которая меня устраивала. Осознав это, я осознала и то, что будет несправедливо вернуться к Флавио, притом что он этого хотел, потому что это было бы сродни предательству.

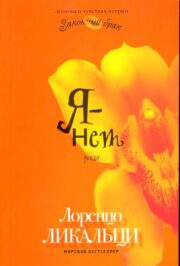
"Я — нет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Я — нет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Я — нет" друзьям в соцсетях.