С того случая, когда Брентон взбесился от ревности, Дели ни разу не покидала судно и не видела молодого человека в голубом пуловере – забеременев, она почти сразу же ушла из магазина.
Общаться с женщинами ей не хотелось, но в душе она чувствовала себя очень одиноко. На письма времени не оставалось, и Имоджин, не получая от Дели вестей, тоже замолчала. А про поездки в Мельбурн она уже и думать забыла.
С какой радостью встретилась бы она сейчас с художниками, поговорила о живописи, поспорила, получила заряд творческой энергии. Она выписывала два журнала по искусству, но, читая их, острее ощущала свою замкнутость и одиночество.
Однажды в Моргане, когда «Филадельфия» загружалась товаром, Дели заметила на пристани худого бородатого мужчину. Мужчина нес под мышкой планшет, а в руке – ящик с красками. Дели хорошо разглядела его: над тонкими, довольно яркими губами, темная полоска усов. Острый нос высокомерно поднят, под полотняной панамой – бледное лицо. Одет небрежно, хотя и со вкусом. Рядом с портовыми рабочими, речниками и железнодорожниками он смотрелся, как орхидея среди картофельной ботвы.
Ей нестерпимо захотелось заговорить с ним. Он тоже посмотрел на нее – у Дели даже дыхание перехватило от волнения; затем глаза оценивающе окинули ее фигуру и отвернулись. Живые, насмешливые глаза. Чем-то неуловимым человек напоминал погибшего отца.
Он свернул на дорожку из белого камня, которая спускалась к главной улице. Дели пошла следом, постояла у магазина, куда он зашел, подождала, но заговорить так и не решилась. А потом, вдруг испугавшись, что он заметит ее, повернула назад, к пароходу.
На следующий день Дели вновь увидела художника. Он укладывал в загруженную какими-то железками лодку ящик с красками и еду.
Легко оттолкнув лодку от берега, он направил ее вверх по течению к излучине, где виднелись желтые рифы. Греб он спокойно и уверенно.
«А ведь он не такой уж молодой, – мелькнуло у Дели в голове. – Лет сорок, не меньше». А когда он исчез из виду, Дели вдруг почувствовала себя так одиноко, словно потеряла близкого друга.
Река начала мелеть. Весь ил опустился на дно, и «Филадельфия», покинув Морган, поплыла по медленной прозрачной воде.
Уровень воды в реке неуклонно падал. Миллионы галлонов воды, необходимой фермерам и садоводам для новой ирригационной установки, впустую уходили в море. К лету 1914 года положение стало катастрофическим. В Ренмарке, в русле Муррея, ирригационный трест соорудил из мешков с песком дамбу. Благодаря ей воды для полива фруктов хватало теперь до самого урожая.
Ниже по реке сидели на мели и кренились, зарывшись в ил, пароходы.
– Да тут шлюз нужен, – воскликнул Брентон. – Всего один шлюз – и вода никуда бы не делась. Я так и знал, что пока новая засуха не припрет, никто не почешется. Сколько миллионов впустую ухлопали на свои поезда. Состязаться вздумали, кто быстрее бегает: паровоз или пароход.
Он злился на засуху, проклиная заодно судьбу, природу и все на свете. Ведь только по-настоящему разворачиваться начал, чуть не все деньги ухлопал на баржу и товар – и на тебе. Лицо его побагровело, исказилось, да так, что Дели даже испугалась: не случилось бы с ним удара, если они и вправду сядут на мель.
Когда это произошло, Брентона в рубке не было. Пароход находился где-то между Уайкери и Кингстоном; Брентон только что передал руль новому помощнику и стоял на борту, глядя, как из берега сочится вода – вечный признак того, что река в этом месте изрядно обмелела.
– Альф! – крикнул помощнику Брентон, – пойди на нос, глубину померяй. Еще шесть дюймов – и на мель сядем.
Он сбавил обороты, и пароход, наткнувшись на песчаную отмель, полностью скрытую водой, остановился мягко, словно нехотя, на борту даже толчка не почувствовали.
Новый помощник никогда не препирался. На лице его всегда была разлита блаженная улыбка, а среди вещей лежали три разных варианта Библии.
Не получив ответа, Брентон бросился в рубку. Помощник, стоя на коленях, молился.
Брентон с проклятьем отпихнул его и, ухватившись за руль, попытался сдвинуть пароход с отмели, но лишь взвихрил песок.
– Черт побери этот проклятый корабль! – Брентон в ярости заметался по рубке. – Черт побери эту мерзкую реку. Чертово правительство! Палец о палец не ударят, хоть бы что-нибудь сделали. И ты тоже хорош! – набросился он на съежившегося помощника. – Нашел время молитвы читать. Проваливай отсюда!
Он обмотал один конец стального троса вокруг толстого ствола красного эвкалипта, росшего на берегу впереди парохода, а другой закрепил на валу гребного колеса. «Филадельфия» подалась вперед, но тут же снова встала. Трос натянулся, боковые колеса завертелись в обратную сторону – дети даже шеи вытянули от любопытства, – но все напрасно: пароход прочно сидел на мели, а баржа плавала сзади.
«Филадельфия» снова застряла в стоячей воде, как когда-то на Дарлинге, но на этот раз положение ее было не в пример хуже. Врезавшись в отмель боком, она стояла с приличным креном, и по мере того, как спадала вода, палуба поднималась все выше и выше. Покатились со стола предметы, молоко едва не перелилось через край кастрюли, поползли с плиты сковороды, словно в качку на корабле.
Дети тут же нашли себе развлечение – скатывались по палубе, как с горки, врезаясь в борт, а потом ходили вдоль палубы одна нога выше другой и распевали во все горло «Я родился на склоне холма, я родился на склоне холма».
– Ну, что я говорил? – простонал Брентон. – Все как в девятьсот втором. – Он велел команде натянуть брезент над баржей и пароходом, чтобы защитить их от полуденного солнца.
На судне у него было немало банок с краской и, чтобы команда не сидела без дела, Брентон заставил всех покрыть двойным слоем верхнюю палубу. Издерганный, взвинченный до предела, он ждал, что что-то изменится и наступит облегчение, но этого не произошло.
Когда-то возле этого места был остров; теперь маленький кусочек суши, поросший лесом, едва виделся в море ила.
Брентон перекинул на сушу сходни, чтобы можно было гулять по острову.
Над лагуной, в которой застряла «Филадельфия», высилась желтая скала. Густо-синее небо, оттеняя скалу, вызывало к жизни великолепную игру красок, в этой палитре казалось, смешались все существующие в природе цвета.
Со скалы спускалась оросительная труба, которая заканчивалась паровым насосом. На вершине скалы, укрытая от глаз, стояла фермерская усадьба.
Воды в реке почти не осталось, и Дели решила прогуляться по дну.
В том месте, которое в разлив считали самым глубоким, струился крошечный извилистый ручеек – все, что осталось от некогда полноводного Муррея. Дели оглянулась на судно и, убедившись, что никто ее не видит, быстро подобрала юбки, разбежалась и перелетела через ручей. «Теперь буду рассказывать внукам: однажды ваша бабушка перепрыгнула Муррей». Дели представила себе раскрытые от удивления рты окружавшей ее детворы и улыбнулась.
Дели огляделась. Выше по берегу уже зеленела трава, здесь же природа была мертва. Растрескавшаяся земля усеяна створками ракушек, клешнями крабов.
Если бы река не обмелела, вода сейчас поднялась бы почти на тридцать футов выше головы Дели. Она вдруг представила, что река умерла. Никогда уже не течь ей снова.
Если бы планы инженерных сооружений воплощались в жизнь, а не оседали в канцелярии Министерства общественных работ, все пошло бы совсем по-другому.
Ведь как хорош проект гигантской Барринджакской дамбы на реке Маррамбиджи. Сколько скота спасли бы оросительные сооружения в Риверайне.
А на Муррее и нужны-то всего большая дамба да несколько плотин и шлюзов. Они перекроют реке дорогу к морю, и она будет шуметь, полноводная и мощная, круглый год.
Но пока власти спорят между собой, все остается по-прежнему.
Поговаривали даже, что неплохо было бы соорудить мощную стену или какое-нибудь заграждение и с наступлением засухи перекрывать устье Муррея. Тогда свежая вода не будет уходить из этих мест, и соленая сюда не попадет. А то до того дошло, что плесы наполнились соленой водой, в Маннуме, что за сотни миль от моря вверх по течению, морскую кефаль стали вылавливать.
Дели задумчиво смотрела на затянутое тиной дно. Придется ли когда-нибудь побывать в устье Муррея, увидеть длинный песчаный пляж, яростно бьющие в берег буруны, о которых ей много рассказывали в детстве? Или жестокой судьбой ей начертано провести остаток своих дней в стоячем болоте, подобном этому, навсегда лишившим ее жизнь высокого предназначения? Что ж, у нее останется возможность вспоминать…
36
Фермерская усадьба на скале совсем не походила на заросшее низкими эвкалиптами место, где жила своей страшной, беспросветной жизнью миссис Слоуп. Речная вода, которая поднималась по трубе вверх, орошала землю. Зеленел фруктовый сад, и в доме, построенном из местного известняка, было прохладно и уютно.
Жена фермера, узнав о положении Дели, предложила на время родов забрать у нее детей.
У самой миссис Мелвилл дети уже выросли и разъехались из дома, с родителями остался только один сын – Гарри. Он вместе с отцом работал в оранжерее, выкашивал на поле люцерну, ухаживал за коровами.
Старший сын, Джим, женившись, уехал жить в поселок Уайкери, где была ирригационная станция.
Дом стоял в глубине, и от него вниз спускалась дорога, по которой можно было выйти к застрявшему пароходу. Высокая неровная стена из желтого камня служила природной лестницей, соединявшей ферму с рекой. От нее к дому вели вырубленные в скале ступени.
Мистер Мелвилл предпочитал спускаться по трубе. Рискуя сломать себе шею, он перебирался через гребень скалы и, ухватившись за трубу, в считанные секунды оказывался у воды рядом с насосом. Отсюда по узкой дорожке, можно было дойти до небольшого укрытия, где мистер Мелвилл хранил свою лодку.
Миссис Мелвилл очень обрадовалась, что поблизости появилась еще одна женщина, и, хотя побаивалась лазить по каменным ступеням, все же спускалась к пароходу, а Дели вместе со старшими мальчиками приходилось провожать ее наверх.

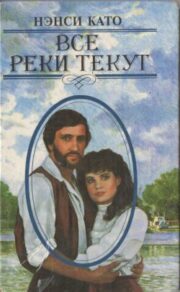
"Все реки текут" отзывы
Отзывы читателей о книге "Все реки текут". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Все реки текут" друзьям в соцсетях.