Доктор сам пришел сказать Брентону, что его жена не в состоянии вернуться на корабль; он ни словом не обмолвился о том, что был день, когда он сомневался в ее выздоровлении. Еще в свое первое посещение доктор почувствовал, что в этом большом человеке, несмотря на вынужденную бездеятельность, таится огромная энергия, а за его запинающейся речью угадал живой ум и железную решимость. Это его заинтересовало. Лечение людей с такими физическими недостатками было его хобби, и его методы намного опережали существующую медицинскую практику.
Придя второй раз, он принес Брентону книгу доктора Отто Шмельцкопфа.
– Пусть вас не смущает немецкий текст и странный шрифт, – сказал доктор Райсман. – На английский еще не переведена. Называется «Реабилитация». Вам нужны иллюстрации. Взгляните – самые новейшие упражнения. Фррр! – Он выдул из своего толстого носа трубные звуки и спрятал, носовой платок. – Теперь посмотрим: у вас есть какая-нибудь чувствительность в левой ноге? А в пальцах левой руки? Довольно хорошая? Хм, хм… Закройте левый глаз. Теперь правый. Не совсем закрывается, да? Голосовые связки тоже задеты. Но с этим вы уже в некоторой степени справились.
– Тяжелая… работа… Но я могу говорить.
– Вы споткнулись на главном: контролируемое дыхание. Основное – заглатывать воздух как лягушка: потом выталкивать его вместе со словами. Сначала это трудно, но у вас правильная мысль. Дальше. Как давно вы можете принимать вертикальное положение?
– Уже… пять… лет…
– А как долго?
– Пять часов.
– Значит, вот как вы сохранили свои ноги от атрофии. Мне нравится ваш дух.
– Встать… или умереть.
– Хорошо! У Диккенса в «Повести о двух городах» старый бродяга выходит из тюрьмы со словами: «Воскрешенный к жизни, я не хочу жить». Это, с точки зрения врача, ужасная вещь. Воля к жизни гораздо важнее лекарств. Теперь посмотрите на эти диаграммы.
Брентону казалось, что, поднимая каждый день тяжелую книгу, он уже делает одно из упражнений, рекомендуемых австрийским доктором, написавшим эту книгу. В ней было множество иллюстраций, показывающих упражнения для реабилитации мускулов, контролирующих пальцы, веки, челюсти.
– Совершенно очевидно, что поврежденные или атрофированные мышцы могут быть частично восстановлены регулярными упражнениями, – пояснил доктор Райсман. – Возьмите балетных артистов или акробатов. Вот что делает даже с нормальными мышцами постоянная тренировка. Вы ведь не хотите стать акробатом; вам нужно только двигаться под тяжестью собственного позвоночника, хотя бы медленно. Фррр!
– Именно так, – с силой выдохнул Брентон, – под тяжестью… собственного… позвоночника.
– Мы будем подниматься по этим лестницам очень медленно, миссис Эдвардс, – говорил Рибурн, останавливаясь на лестничной площадке, как раз на полпути к студии.
Дели заново училась ходить на своих одеревеневших ногах, чувствуя иногда острое покалывание. Она шла, тяжело опираясь на его руку. У нее уже совсем не осталось сил, а они добрались только до первой площадки. Но ничего не попишешь: она сама настояла на этом путешествии.
Дели чувствовала все возрастающий интерес к личности своего хозяина и не могла дождаться, когда же увидит, наконец, его работы и место, где он трудится.
– В доме совсем нет ваших картин. Почему так? – спросила она. – Я внимательно смотрела везде, когда встала, – ни единой.
– Да, вы правы. – Он отвернулся от нее и склонился над перилами, глядя в начало винтовой лестницы. – У меня нет иллюзий на свой счет, вот почему. В моей комнате висят одна или две – те, что я люблю, но и они не такого уровня, чтобы вывешивать их на всеобщее обозрение.
– Значит, вы никогда не выставлялись?
– Выставлялся, когда был моложе. Я состоял тогда в Южноавстралийском обществе художников, и мои творения регулярно вывешивались. Но они меня не удовлетворяли. И теперь я рисую исключительно для своего удовольствия, удовольствия самовыражения. Я думаю, это вообще единственный веский довод в пользу занятий живописью. Хотя, что касается меня, то есть и еще одна причина: желание удержать хоть что-нибудь в ускользающем потоке времени; что-нибудь, имеющее собственный порядок, независимый от некоего хаоса жизни. Поэтому, мне кажется, и существует искусство: из беспорядка и неопределенности оно создает определенные формы и образы. Впрочем, давайте поднимемся и покончим с этим.
Рибурн выглядел подавленным, даже его изогнутые брови, казалось, распрямились, вытянулись в одну линию, веки были опущены, скрывая выражение глаз.
– Да-да, я уже отдохнула.
Опускная дверь на шарнирах была поднята, поток солнечного света лился вниз, на желтоватое дерево лестницы. Они вошли через пол студии, и у Дели от восторга захватило дух. Ее глазам открылся мир с высоты птичьего полета, потому что шестигранные стены на высоте двух футов от пола были сделаны из стекла. На полу лежали два персидских ковра, многоцветие их красок пламенело в солнечном свете. В студии не было ничего, кроме дивана, покрытого бархатом в рубчик, двух старинных уютных кресел, мольберта и заляпанного краской стола с банками кистей и коробками масляных красок.
На мольберте стояла начатая работа – закат над водой, а все стены до пола были плотно увешены морскими пейзажами.
Море в лунном свете, на закате, на рассвете, темное от надвигающейся бури, яркое от солнечного блеска, кипящее белыми гребешками… Кроме моря, здесь были картины с изображением озера и залитых солнцем бухточек, образованных широким устьем Муррея. Больше ничего.
Дели с недоумением смотрела вокруг, не зная, что сказать. Чего же она ожидала? Не этого. Философская портретная живопись, может быть, жанровая живопись с сатирическим подтекстом, – все, что угодно, но только не эта романтическая увлеченность морем, полутонами лунного света и пробуждающихся рассветов. Здесь не было ни одной картины, написанной при ярком, богатом красками дневном свете.
– Ну? – Рибурн смотрел не на нее, а вниз, на озеро.
– Я потрясена, – сказала она наконец. – Это так неожиданно…
Дели ходила вдоль стен, не пропуская ни одной картины, внимательно разглядывая даже незаконченные наброски.
– Я не знала, что вы так любите море. Скажите, это Гулуа-Бич? Песчаные холмы, кустики сухой травы и бесконечный ряд волн, набегающих на берег, все купается в лучах красного солнца, висящего совсем низко над горизонтом.
Рибурн кивнул.
– Забавно, мысленно я видела этот берег почти всю свою жизнь, но всегда видела его холодным, холодным и белым, с голубым накатом морских волн и песчаными холмами, похожими на замерзшую пену.
– Очень похоже! Песок там не белый, но брызги морской пены в ветреные дни поднимаются в воздух и ложатся кучками, как снег, и волны разбиваются с ужасающим грохотом. А это я нарисовал в день большого степного пожара, когда отблески огня ложились на воду с удивительным медным отсветом. Устья Муррея здесь почти не видно, оно теряется в легкой дымке.
Дели с интересом разглядывала то место странного берега, на которое он указал и которое она часто видела в мечтах, – беспредельная даль необитаемого берега, о который вечно бьется Южный океан.
– Вот это мне нравится больше всего, – сказала она, наконец, снова останавливаясь перед маленьким этюдом с изображением волны, взметнувшейся навстречу раннему утреннему свету. Зеленая, прозрачная, увенчанная пеной, теперь она навсегда застыла в воздухе в тот момент, когда ее последний, завершающий напор начал ослабевать.
– Он называется совсем просто: «Волна». Мне несколько раз предлагали его продать, но я отказывался, он мне дорог больше других. Ну, и каков же ваш вердикт? Вначале вы совершенно притихли.
– Говорю вам, я поражена. Мне невероятно интересно. Вы человек, преданный одной теме; в вашей живописи много энергии, страсти; море – жестокий повелитель, говорит она.
– Я всегда предан одной теме и настойчив в достижении того, что меня интересует, – сказал он, серьезно глядя на нее. – Считайте, что вы предупреждены.
Она ничего не ответила и отвернулась к окну: какая ширь открывается глазу, какой вид на равнины, на озеро и дальше – на берег, примерно миль на двадцать. Пристань и «Филадельфия» казались отсюда игрушечными. От мыса Помандер шел пароход, оставляя за собой клубы дыма.
– Еще груз шерсти для нас, – сказал Рибурн. – Я думаю, это «Певенси». Ну-ка, посмотрим.
Он снял холст, закрывающий странных очертаний предмет у восточной стены, открыл окно и начал вращать окуляр телескопа.
– Очень удобно, если хочешь узнать о приближающихся пароходах и их грузах, – сказал он. – А по ночам я могу изучать луну и звезды. Часть крыши сдвигается назад, и телескоп поворачивается вот на этой установке. А часовой механизм – видите? – перемещает телескоп так, чтобы объект все время находился в поле зрения.
– Поразительно! Как бы мне хотелось увидеть и спутников Юпитера, и кольца Сатурна, и лунные кратеры… Это возможно?
– Вполне возможно, если вы дождетесь, пока стемнеет. Ночь будет ясная. Но сегодня Сатурн, к сожалению, за горизонтом. А пока взгляните на этот пароход. Он хорошо идет при таком штиле.
Дели приложила глаз к окуляру и увидела, как уменьшенный расстоянием пароход, словно по волшебству, подходит все ближе. В открытом окне рубки она заметила рулевого, смотрящего вперед и не ведающего о том, что чей-то глаз рассматривает его с другой стороны озера. Она увидела, как кто-то, матрос или механик, поднялся наверх и заговорил с ним, выбрасывая перед собой руку. Все они казались ненастоящими и напоминали движущиеся картинки, которые она показывала детям: живые фигурки двигались и жестикулировали, открывали рот, не произнося ни звука.
Дели, улыбаясь, повернулась к нему:
– Вы и на меня смотрели через эту штуку?
– Да, я видел, как вы выглянули из рубки, что-то сказали сыну, и оба рассмеялись. Потом вы вышли из-за мыса и волны со всех сторон накинулись на вас; я подумал, что вы растеряетесь или, по крайней мере, взволнуетесь, но ничего не заметил. Это произвело на меня большое впечатление.

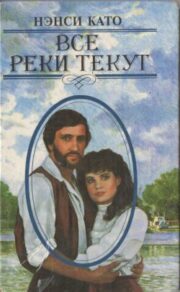
"Все реки текут" отзывы
Отзывы читателей о книге "Все реки текут". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Все реки текут" друзьям в соцсетях.