Ибрагим легко перехватил внимание Сулеймана, у них были свои дела, свои интересы, которые не касались постели, грек показал Роксолане, что она с сыном в жизни Повелителя не главное, что тот легко находит занятия и вне спальни.
Когда вернулись, Сулейман в первый же вечер позвал Роксолану к себе:
– Я соскучился…
– Вам было интересно? Я рада за вас.
– А ты скучала?
– Нет…
– Нет?
– Это не скука, это тоска.
Никто мне не поможет, я больна,
Когда моя душа с твоей разлучена.
Приди, и мой недуг пройдет,
Как только взгляд Хуррем твой взгляд найдет.
– Хуррем… Я больше не оставлю тебя надолго.
Она заставила себя рассмеяться:
– Нет-нет, Повелитель! Нет, у мужчины, тем более султана, много дел и без наложницы. Я не хочу мешать, только дайте мне знать, что не забыли, что помните обо мне, этого будет достаточно. Одно слово, чтобы я знала, что все еще в вашем сердце, это слово лучшее лекарство и от тоски тоже.
Утром Сулейман все же сказал:
– Мы уезжаем на неделю охотиться, не скучай.
– Буду. И тосковать буду. И плакать тоже. Но удерживать не стану, езжайте. Так надо, сокола нельзя держать все время на привязи, он эту привязь возненавидит, а я хочу, чтобы вы меня любили. Обещайте только помнить обо мне эти дни.
– Что тебе привезти в подарок? Ты хочешь подарок?
– Хочу.
– Что?
– Себя самого. Это лучший подарок, большего не надо.
Она промолчала о том, в чем еще не была уверена. Ничего, пока не пришло время сказать, что она, кажется, снова беременна.
Сулейман был в восторге, наконец-то у него женщина, которая не виснет на поле халата, умоляя не покидать ее, не ноет, но признается, что будет тосковать.
Султан со своим другом уехал охотиться, в гареме снова наступила тишина, не перед кем было показывать свою походку, не с кем кокетничать. Одалиски не решились бы кокетничать с самим Повелителем, а вот грек, пусть и паша, который лишь вчера был рабом, вполне подходящий объект для кокетства.
Роксолана так и не сказала пока Сулейману, что прошла неделя сверх положенного срока, а женских дел нет. Может, задерживаются, а может… Думать о том, что может случиться потом, просто не хотелось. Не успев насладиться близостью с Сулейманом, она рисковала навсегда потерять возможность посещать его спальню. Вдруг снова сын?
Нет-нет, Сулейман же сказал, что будет дочь! Уверенно сказал. И пусть дочери не в чести в султанских семьях, словно они сами родились не от дочерей, если сейчас выбирать между сыном и дочерью, Роксолана желала бы дочь. Но Аллах и без ее просьб и подсказок знал, кого давать и давать ли вообще.
Прошли еще три дня, теперь вопрос задала уже Фатима:
– Госпожа, не слишком ли большая у вас задержка?
– Какая задержка?
– Вы беременны?
– Не знаю, кажется.
– Сколько дней просрочено?
– Десять.
– Ладно, пока ничего говорить не будем, еще через несколько дней Зейнаб посмотрит. Молчите.
Конечно.
Это Роксолана понимала и сама, нельзя говорить раньше времени, наоборот, стоит молчать, пока такая возможность есть. Чем меньше людей знает о беременности, тем лучше.
Фатима не могла понять:
– Она же кормит ребенка?
Зейнаб вздыхала:
– Госпоже очень хочется родить Повелителю дочь… Аллах всегда помогает в таких желаниях.
А в воздухе висел вопрос: что же дальше?
Султан охотился, а в гареме женщины снова мучились этим вопросом. Конечно, многие будут рады невольной отставке Хуррем, даже если на время беременности. Это означало свободное место на ложе султана, возможность испытать счастье и себе. Роксолана мысленно уже видела, как в спальню к Повелителю кизляр-ага провожает кого-то другого.
Попросить у Зейнаб средство, чтобы избавиться от ребенка до возвращения Сулеймана? Была и такая мысль, такой грех, но Роксолана тут же выбросила ее из головы и дольше обычного в тот вечер стояла на молитвенном коврике. Какому богу молилась? И сама не знала, просила только простить за грешную по любым меркам мысль об избавлении от дара божьего – ребенка от любимого.
С такими мыслями ей было не до Ибрагима, даже не вспомнила грека, не почувствовала его мстительный интерес. Зато мысли крутились вокруг одного: как, потеряв возможность бывать на ложе Повелителя, не потерять его самого. Любовь ведь не только в постели, она, прежде всего, в сердце. Как остаться нужной, интересной Сулейману, когда любить его на ложе уже будет нельзя?
Пока еще носила сына, старалась как можно меньше бывать среди наложниц гарема, боясь сглаза, боясь недобрых слов и взглядов. Часто только в сопровождении служанок сидела в саду или гуляла, размышляя.
Размышлять было о чем.
Она очень быстро забеременела, а Сулейман после того очень скоро отправился в поход, мало случилось у них сладких ночей, мало радости. Письма всего не скажут, да и переписаны переписчицей, она сама грамотой владела еще плохо, читала легко, а вот писала хуже.
Родит ребенка, станет кадиной. Что за этим последует? Родится дочь, Роксолану оставят рядом с султаном, если тот пожелает, а если сын? Она прекрасно помнила неписаное правило гарема: одна наложница – один сын. После рождения сына наложницу следовало от султана удалить, она продолжала жить на положении кадины, но только в спальне Повелителя больше не бывала.
По звездам, по положению живота, по другим приметам все твердили, что будет сын. Значит, все, больше не знать ей жарких объятий Сулеймана? Сердце Роксоланы обливалось кровью. Неужели после рождения желанного ребенка она будет видеть султана только на торжествах, почти издали, зная, что на зеленых шелковых простынях ночью другие?
Ну почему женам можно рожать сыновей, а наложницам только одного?!
О том, чтобы стать женой или что Сулейман может нарушить закон, пусть даже неписаный, не думала, знала, что на это лучше не надеяться. И сына, который требовательно толкался крохотными ножками внутри нее, тоже не кляла, радовалась будущему дитяти.
Цепкий ум никого не клял, даже ненужные, жестокие законы, он искал выход. Как можно видеть султана, не только его высокую фигуру издали, а глаза, обращенные к ней, слышать его голос, смех, беседовать с ним, знать, что и ему интересно?
Роксолане семнадцатый год, самое время для любви, а не для размышлений, но жизнь заставила, и пришлось думать.
Она успела понять, что должна стать для Повелителя интересной собеседницей, настолько, чтобы не пожелал отпускать от себя. Пусть не в спальне, так хоть в саду, в кешке, чтобы читал гюзели, что-то рассказывал, спрашивал…
Роксолана сама подолгу просиживала в кешках – небольших беседках, затененных вьющимися растениями, с журчащими ручейками, читала суры Корана, стараясь самое важное запомнить. Гюль удивлялась:
– Вы улемом или хафизом хотите стать?
Они смеялись, женщина-улем, то есть богослов, или хафиз, знаток Корана наизусть, – это смешно. Но фатиху – первую суру Корана – Роксолана выучила. Это оказалось не так сложно. Женщине Коран читать не положено, приходилось просить настоящего улема повторять и повторять. Тому надоело, принес переписанную суру, тихонько сунул в руки:
– Только не показывайте, кадина, никому.
Роксолана ловко сунула листы за пазуху, кивнула:
– Не скажу.
Улем ей лично попался хороший, все, что надо, разъяснял, повторял, не злился на ненужное любопытство вчерашней гяурки. Но Роксолана прекрасно понимала, что не такое знание ей нужно. Действительно, не станет же она беседовать с Повелителем о сурах Корана?
А о чем? Поэзия хороша тоже в определенных объемах.
Когда привезли первые подарки от султана – книги, собранные в городах, которые покорил, сначала обрадовалась. Махидевран, Гульфем, да и наложницы, тоже смеялись над ней, мол, вместо стоящих подарков какие-то дурные попросила. Прислушавшись к совету Зейнаб и Фатимы, Роксолана старалась не злить соперниц, не привлекать внимания, книги отнесли в библиотеку.
Но теперь ей предстояло биться за внимание и сердце Сулеймана не с наложницами, не с Махидевран, даже не с валиде, а с Ибрагимом. Роксолана уже поняла, что это куда серьезней. Любая наложница интересна султану только в постели, это не так страшно, валиде может завладеть его вниманием только на время, это все в гареме, значит, на виду, значит, не так опасно. У грека была дружба Сулеймана вне стен гарема, там, куда доступа Роксолане не было. Он мог увести Повелителя, и увести надолго, отнять его, занять его мысли чем-то другим, кроме семьи, кроме любви.
И это куда опасней любых опасностей гарема, потому что под защитой Повелителя в гареме ей было не страшно, не так страшно, а вот потеряв эту защиту, можно потерять все, не только любовь и приязнь, но и саму жизнь. Хотя для Роксоланы это было равносильно. Жить в клубке шипучих змей без любви единственного мужчины, неважно Повелитель он или нет, невозможно.
Потому она решила, что опасней всего Ибрагим, он опасней Махидевран и валиде, вместе взятых, именно с греком ей придется бороться за Повелителя, за его сердце, его внимание и уважение, за саму жизнь.
Но эта самая жизнь быстро показала, что она рано сбросила со счетов остальных…
Сердце с утра не на месте, Роксолана и сама не могла понять почему. На бесконечные вопросы о том, как Мехмед, следовал один и тот же ответ:
– Хорошо, госпожа. Шехзаде здоров и спокоен.
С сыном все в порядке, неужели что-то с Сулейманом? Но сердце чувствовало, что не с ним, а именно с ней самой.
Когда валиде вдруг позвала к себе, сердце трепыхнулось: вот оно!
Но Хафса была даже приветлива, принялась расспрашивать о малыше, причем делала это так, словно не видела Хуррем добрых пару месяцев или юная женщина с сыном жила вдали. И все же от Роксоланы не укрылось легкое беспокойство валиде, та словно ждала какого-то известия, а тем временем тянула и тянула беседу.

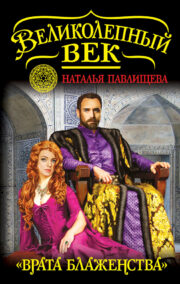
"«Врата блаженства»" отзывы
Отзывы читателей о книге "«Врата блаженства»". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "«Врата блаженства»" друзьям в соцсетях.