Сама Хуррем лежала почти без чувств, когда увидела входящего в комнату Сулеймана, показалось, что это бред, но на всякий случай попросила прощения:
– Повелитель, простите, я родила вам дочь, а не сына… Но она красивая…
– Я уже видел. Спасибо, ты выполнила мою просьбу, я все время просил, чтобы ты родила дочь. Следующие будут сыновья, много сыновей…
Она только слабо улыбнулась и прикрыла глаза, не в силах бороться с дремой из-за слабости.
– Повелитель, простите, Хуррем Султан больна, она невольно засыпает… – Зейнаб готова была на коленях умолять у султана прощение.
Сулейман кивнул:
– Я вижу, что она слаба. Когда проснется, покажите фирман и скажите, что я приходил. С ней все будет хорошо?
Зейнаб чуть не крикнула: теперь да!
Вот как гарем мог узнать все, что произносил султан в комнате Хуррем? Не мог, но слышал. Поистине в гареме и стены имеют уши, и потолки глаза.
Повелитель нарушил все возможные правила. Он сам явился к родившей женщине, прежде чем та очистится, объявил о рождении дочери на равных с сыновьями, произнес имя маленькой принцессы для всех: Михримах – красавица, сам пришел посмотреть на новорожденную. Но главное – он объявил, что Хуррем была, есть и будет Хасеки!
Махидевран рыдала в подушки, Гульфем прибежала к двери в комнату Хуррем с подарками, правда, ее не пустили. Словно получив какую-то команду, понесли подарки и остальные. Прежде всего обитательницы гарема. Казалось, они только ждали возможности выразить свое восхищение рождением девочки, радовались появлению на свет принцессы, почти мечтали об этом.
Если правда, то мечтали, ведь рождение девочки должно бы разлучить Хуррем с Повелителем, как и рождение сына, но этого не произошло, султан всем объявил, что рад дочери и по-прежнему любит ее мать. Можно ли найти лучший повод для злословия? В гареме было о чем почесать языки…
Меньше двух лет назад Хафса приняла роксоланку в гарем и назвала ее Хуррем за веселый нрав, приняла в расчете на то, что необычная новенькая на время завладеет вниманием султана и заставит Махидевран и Гульфем прекратить склоки друг против друга, объединившись против новенькой. Удалось чересчур, не только Махидевран с Гульфем, но и все остальные споры прекратили, казалось, теперь для всеобщего возмущения и осуждения существовала одна Хуррем. Почему? Никто из одалисок объяснить не смог бы. Слишком уж везло этой роксоланке, а везучим всегда завидуют….
Обижен был Ибрагим, Сулейман не звал к себе, даже не допускал, не желал видеть наравне с остальными. Но грек уже привык чувствовать себя на особом положении, он не остальные, он второе «я» султана, как мог Повелитель советоваться о чем-то не с ним, всегдашним советчиком и почти наставником, а с кем-то другим?! Неважно, что этот другой старый улем.
Узнав, о чем вопрошал улема Махмуда Адила султан, Ибрагим и вовсе взбеленился. Снова эта женщина! Как удалось ей родить здоровую дочь?! Казалось, и сама не доживет до рождения ребенка, но почему-то роды начались раньше времени, и девочка выжила, и сама Хуррем жива, и султан вдруг во всеуслышание объявил, что рад малышке, а Хасеки благодарит.
Ибрагим под предлогом срочных дел уехал из Стамбула, чтобы не выдать своих истинных мыслей, а Сулейману отправил письмо, в котором поздравлял, восторгался, желал… Грек умел красиво выражать мысли, особенно те, которых в действительности не было. Научился у венецианских купцов, с которыми с каждым днем общался все чаще.
Никто не должен знать, что Ибрагима связывали с венецианцами не только государственные, но и чисто финансовые связи. У него находилось все больше дел, приносивших выгоду обеим сторонам. Если можно выгодно продать венецианским купцам, то почему бы этого не сделать. Служба у султана, конечно, приносила доход, и немалый, но деньги никогда не бывают лишними, сколько бы их ни прибывало.
Вот и сейчас, чтобы не беситься от злости, Ибрагим поспешил на побережье, где у него дела с венецианцами: его занимала мысль использовать в своих купеческих целях флот Венеции. Казалось, посланцы Великолепной Синьоры Венеции вовсе не были против, понимая, что выгода будет обоюдной.
Но как ни старался Ибрагим, выбросить из головы мысли о Хуррем и поведении Сулеймана из-за нее не получалось. Образ зеленоглазой колдуньи преследовал его всюду, во время похода, казалось, удалось выбросить ее из головы, но встречи в гареме невольно возвращали снова и снова.
В последние месяцы она старалась прятаться, уходила в дальние уголки сада, не показывалась, боясь сглаза… Но от этого не становилась менее красивой и менее желанной двум мужчинам сразу. На счастье Ибрагима, Сулейман не догадывался о его истинных чувствах и отношении к Хуррем. Сам грек каждый день давал клятву выбросить из головы красавицу, но не получалось. Он был готов проклясть Хуррем от отчаяния, и только какая-то тайная надежда не позволяла сделать это. В этой надежде грек не признавался даже сам себе.
Любил и ненавидел одновременно, все больше скатываясь к готовности погибнуть самому, только чтобы погубить ее. Это самая страшная смесь чувств, разрушительная, гибельная, но такая, против которой бессилен даже самый крепкий человек.
Венецианцы дружили с Османами с незапамятных времен, они не проникали в Черное море, как генуэзцы, основавшие Кафу, но упорно осваивали побережье Средиземноморья и саму Османскую империю. Еще сто лет назад Мехмед Фатих (Завоеватель) даже пригласил венецианского живописца Джентиле Беллини, чтобы тот изобразил его на холсте. Джентиле, перепоручив начатую роспись собора брату, немедленно отправился в Константинополь, ставший теперь Стамбулом. Личность султана показалась ему столь замечательной, что Беллини написал целых шесть портретов Мехмеда Фатиха. А еще разрисовал стены внутренних покоев его дворца весьма вольными картинами. Фрески откровенно эротического содержания потом замазал следующий султан Баязид, посчитавший, что гарем гаремом, а срамоту на стенах иметь вредно даже для евнухов. А может, возбуждения наложниц испугался?
Но главными были, конечно, не живописцы и даже не послы Венеции, а торговцы. Венецианские купцы вездесущи, они умели вовремя преподнести подарки, знали, кому и что именно, легко уловили особенности восточных традиций отдариваний и попросту взяток.
С территории Османской империи везли пшеницу, хлопок, пряности, шелк-сырец, медь, в больших количествах соду для производства муранского стекла (этим же стеклом потом отдаривая) и многое другое, все сырье. Ввозили готовые изделия, прежде всего ткани, зеркала, тонкое стекло, хорошую бумагу, мыло, множество предметов роскоши. Венецианцы быстро приноровились к вкусам и запросам состоятельных оттоманов и научились их даже предвосхищать. Купцы сновали по морю туда-сюда, невзирая на то и дело обостряющиеся отношения.
Венецианский Совет Десяти во главе с дожем (Тайная полиция Венеции) время от времени озадачивал своих послов улаживанием вопросов очередных стычек на море – пираты с обеих сторон не дремали, там, где есть корабли, перевозящие дорогие вещи, обязательно найдутся те, кто пожелает прибрать их к рукам.
Должность посла Венецианской республики не из завидных. Послу не полагалось много: например, он не мог брать с собой жену, не мог создавать себе особых условий пребывания. Это и неудивительно, потому что сначала послы назначались всего-то на три-четыре месяца, ни к чему возить за собой жену и большой штат слуг. Послами отправляли знатных граждан Венеции насильно, не просто не спрашивая их согласия, но и против него. Если человек отказывался, он вынужден платить большущий штраф, но через несколько месяцев его выбирали снова и штраф повторялся. Устав платить, богатые венецианцы невольно отправлялись в дальние земли, рискуя жизнью.
Легче, когда таковыми оказывались именитые купцы: у них и привычка к перемене мест уже была, и налаженные связи, и глаз наметанный. Не избежал участи и Андреа Гритти. Он торговал в Константинополе, который теперь называли Истанбулом, или Стамбулом. Мало того, османам просто надоела бесконечная смена венецианских послов, не успевали привыкнуть к одному и выучить его имя, как приезжал другой. Конечно, послы снова преподносили дары, но османы и сами достаточно богаты, чтобы не покупаться на эти крохи, они предпочли бы иметь дело с кем-то постоянно.
Особенно смена послов досаждала визирям, которые тоже менялись довольно часто, особенно при султане Селиме. Но был один, который уходил и неизменно возвращался – Херсекли Ахмед-паша, который пять раз назначался на эту должность: трижды султаном Баязидом и дважды неугомонным Селимом. У султана Селима визири менялись чуть реже, чем венецианские послы, – дважды в год.
Отсидев в Стамбульской тюрьме четыре года и выйдя оттуда только благодаря заступничеству Ахмед-паши и личной приязни султана Баязида, Гритти поспешил отбыть домой в Венецию. У Андреа в Стамбуле родились четверо сыновей и несколько дочерей (кто же их считает?), конечно, все от наложниц, но как иначе? На последней аудиенции у султана синьор Гритти клятвенно обещал пытаться стать следующим дожем Великолепной Синьоры Венеции и в этом качестве неизменно крепить дружбу с Османской империей, а также прислать в качестве поддержки в Стамбул собственных сыновей, во всяком случае, одного.
Возможно, это обещание и вытащило излишне любопытного венецианца из тюрьмы, – османам в подземельях Стамбула от него толку мало, все, что мог отдать, Адреа уже отдал, а в качестве нового правителя Венеции он еще мог пригодиться.
Но выполнить обещанное сразу не получилось, дож Леонардо Лоредано оказался слишком живучим и свой пост просто так уступать не собирался. Лоредано правил целых двадцать лет, из которых Гритти пришлось ждать целых пятнадцать. Но и после того Андреа дожем не выбрали, несмотря на возраст и тюремное прошлое, он был слишком крепок физически, а дожей норовили выбрать постарше и поболезненней. Следующий дож правил недолго, всего два года.

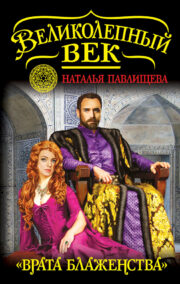
"«Врата блаженства»" отзывы
Отзывы читателей о книге "«Врата блаженства»". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "«Врата блаженства»" друзьям в соцсетях.