«Нас накрыло снегом, – пишет мне Рено. – и мы уже не принадлежим миру живых. Дорогая моя, мой верный огонёк, я так верю тебе, что и через кружащиеся в вихре стены своей могилы вижу тревожный свет твоих глаз цвета авантюрина… Я вернусь, снег теперь бессилен. Я вернусь к тебе таким, каков я есть, каким я сам себя вижу, а это значит – стариком… Мысль о том, что мы снова увидимся, приводит меня в отчаяние, хотя я только этим и живу. Я знаю, ты уловишь перемену с первого взгляда, ты сразу заметишь, как я сдал, я знаю, что сияющее личико не выдаст тебя, потому что и ложь твоя безупречна. Умоляю, Клодина, не лги мне, или я похороню себя здесь. Лучше закричи, застони, всплесни руками, когда я появлюсь: "Дорогой, как же ты устал! Как постарел! Какая у тебя седая голова! Ты не похудел?..» Выплесни наружу всё, что хотела бы скрыть твоя жалость, жалость, которой я не желаю! Не нужно оберегать меня, будь честна, не бойся расстроить меня с самого начала, с того мига, когда твои молодые руки обовьют мою старую куриную шею. Сочти мои новые морщины, улыбнись старым, проведи точным, обличающим пальчиком по смятым векам, а потом засни, так и не воспламенившись, с обидой и злостью, засни с грустью и печалью, разочарованная своим старым мужем… Может быть, тогда наутро он уже покажется тебе не такой развалиной по сравнению с впечатлениями предыдущего дня…»
Я лишь пожимаю плечами, читая письмо. Я смеюсь, и от судорожного смеха вздрагивают слёзы в глазах, между мной и письмом протягиваются светящиеся лучики. Что за глупость: четыре страницы бессмысленной писанины, когда хватило бы всего трёх слов – «Я скоро вернусь».
Он скоро вернётся. До этого нужно решить два важных вопроса: какое платье надеть к его приезду и что подать на ужин. Он, естественно, приедет вечером. Когда солнце уже сядет – теперь оно садится рано, в половине пятого или в пять. Синие сумерки, тёплый туманный вечер или звонкий морозец, в закатном небе уже зажгутся звёзды – две или три… Вот приближается поезд, йодом пахнул дым паровоза, дверца, плед, тёплое пальто, седые усы… А дальше… дальше не знаю… только бы очень холодно не было и у меня не покраснел нос…
– Хорошие новости, Клодина?
– Хорошие.
Я опускаю ресницы, неумело напускаю на себя загадочный вид и глажу заснувшую у меня на коленях Перонель. Сегодня я ничего не скажу Анни. И Марселю тоже. Я запечатываю свою тайну и прячу в карман – этот кусок пирога я съем одна, у себя в комнате, ночью… Никто ещё не знает, что скоро вернётся Рено. Марсель дремлет на краю дивана, как Нарцисс над источником. Анни вышивает, и невесть какое юное, розовое, мускулистое видение встаёт между ней и пяльцами… Перонель так и спит на спине, подставив вытянутую шею любым испытаниям. Живот у неё розовато-рыжий, и на нём четыре пары бархатных чёрных пятен-пуговиц. Полоски на шкурке расположены так равномерно, что в любом случае она сохраняет безупречный, полный достоинства вид – так смотрелся бы человек, одевающийся у дорогого портного. Сон избавил её от всегдашней осторожности, она доверчиво показывает наивный подбородок, блестящую скобку рта и четыре когтистых подушечки цыганских лапок… Ей тоже неведомо, что скоро вернётся Рено…
Лишь одно существо, молчаливое, чёрное, курносое задрало ко мне бесформенную морду симпатичного чудища. Тоби-Пёс, прервав свой лёгкий сон, смотрит на меня, как Мато на Саламбо. Он не всё понимает. Но он предчувствует, почти догадывается, тревожится, приподнимается мне навстречу… И я наклоняюсь к нему, глажу по шишковатой голове – всё, мол, хорошо, ты и так достаточно понял, больше и понимать нечего…
Какой чудесный вечер! Я снова стала такой, какой должна была оставаться всегда: снисходительной, мягкой, оптимистичной. Я бросаю на «бедняжку Анни» взгляд, просящий прощения за мою обычную сухость, за вчерашнее высокомерное молчание, но она вышивает, склонив голову, и я вижу лишь её чёрный бархатный конский хвост… Моя доброжелательность растёт, ширится и добирается до Марселя, заснувшего в изящной театральной позе, свесив одну руку. Из потрескивающих в камине поленьев выскакивает длинный синий язык пламени и шипит, извещая: «Новости…»– дремлющая гостиная вмиг оживает…
– Вы занимаетесь выжиганием по дереву, Анни? Я слышал характерный звук… – зевая, говорит Марсель.
Анни, открыв от изумления рот, застывает с иголкой в руке, на её нежном продолговатом лице так ясно написано смущение женщины, застигнутой в момент наслаждения, что я какое-то время колеблюсь: спросить, о чём она грезила, или рассмеяться…
– О чём вы мечтали, Анни? Ну быстро, быстро, не раздумывайте! Говорите правду!
– Но я уже не помню… так, что-то виделось… я задремала, как Марсель… Что это с вами, Клодина?
Я вскакиваю, к величайшему неудовольствию Перонель.
– Да ничего, эффект оттепели. Здесь чертовски жарко. Не приоткрыть ли нам чуть-чуть?
Мои собеседники возмущённо переглядываются.
– Приоткрыть? – вопит Марсель. – Да она с ума сошла!.. Мы замёрзнем насмерть! На улице четыре градуса мороза!
…Четыре градуса! Как смешно… Смешно и немного неприятно. Сейчас мне больше подошла бы влажная, с яркими звёздами, полная звуков ночь, напоённая ароматом жасмина, – так я эгоистически счастлива сегодня, я вдруг зацвела и запахла, как перепутавшая время года гардения… А на улице мороз… Ну и пусть.
– Оставьте в покое дверь, Клодина! – умоляет Марсель. – Подите-ка сюда, у меня на виске появился угорь, я уже два дня собираюсь его выдавить, да духу не хватает…
– Нельзя его выдавливать, – торопливо начинает объяснять Анни. – Нужно взять тонкую иголку…
Её прерывает мышиный писк.
– Что? Иголку? Почему не скальпель? Какой ужас вы говорите, Анни! Лучше уж отдаться во власть Клодине. Она давит мне угри с такой силой, что невольно приходит на ум мысль о садизме – я чуть сознание не теряю каждый раз, ощущение такое, что тебе порвали все жилы…
Марсель усаживается на подставку для ног в форме качалки: маленький, вышедший из моды предмет мебели, претенциозный и громоздкий. Запрокидывая под свет лампы белое лицо с прикрытыми глазами, он, кажется, заранее начал терять сознание, а Анни не может отвести заворожённого взгляда от картины готовящейся муки…
Как настоящий палач, я пробую орудие казни – щёлкаю ногтями больших пальцев.
– У вас есть носовой платок, Анни?
– Да, зачем вам?
– Вытирать кровь! Я совсем не хочу запачкать свою новенькую блузку за двадцать девять франков… Так где там у нас эта черноголовая язва? Ага, вижу. Бедное дитя, вы обратились ко мне слишком поздно… Болезнь зашла далеко…
Щёки Марселя в моих ладонях подрагивают от сдерживаемого смеха, от сладкой тревоги. У меня в руках, словно плод, нежное лицо с закрытыми глазами, прозрачной кожей… я уже когда-то держала вот так же осторожно юное лицо, такое же бархатистое, загадочное, с закрытыми глазами – чьё? Рези… Сравнение естественно – и неожиданно…
Анни склоняется над изящным замкнутым лицом, как над зеркалом.
– Не надо специально причинять ему боль, Клодина, – шепчет она опасливо.
– Не бойтесь, дурочка вы этакая! Что, слишком красив, чтобы попортить шкурку?
– О да! – признаёт она еле слышно, с почтением. – Смешно, но с закрытыми глазами он ещё красивее… Такое бывает только у очень юных мужчин… Те, что постарше, становятся озабоченными, когда спят… уходят от вас далеко-далеко…
Марсель отдал себя во власть моих рук, наших глаз. Он наслаждается нашим восхищением, прикосновением моих тёплых ладоней и ужасом ожидания страшной боли на виске, вот сейчас… Он не двигается, дышит слабо и учащённо, едва заметно подрагивают тонкие ноздри. Тень ресниц рисует на щеке серое крылышко осы… Анни не может наглядеться, она ещё никогда не видела так близко недостижимого Марселя, да ещё таким беззащитным, беспомощным… Она сравнивает его с самыми красивыми своими воспоминаниями и только качает головой… По её лицу ясно видно, что она страстно желает поцеловать его, и я невольно ищу столь же горячий отклик в чертах Марселя…
Улыбающиеся губы – они желанны, бархатные щёки с серебристым неуловимым отливом, молодые волосы – одна прядь шелковистым полуразвёрнутым веером раскидалась по лбу, глаза – я знаю, они синие, – под более прекрасными, чем взор, веками: так вот, значит, что я. словно полный кубок, держу в руках, вот от какой юной плоти умоляла судьбу уберечь меня Анни? Вот он, неведомый плод, который, по их утверждениям, вкуснее всех других… Вот что заставляет терять голову Анни – и ещё тысячи тысяч женщин. Вот что разоряет и ввергает в преисподнюю старых вакханок, согласных отказаться от чего угодно, только не от этого! «Юная плоть»! Эти два слова шуршат у меня в ушах, словно раздавили сочный цветок. Так вот что у меня в руках, над чем я склоняюсь со спокойным трезвым любопытством… Вот что везде и повсюду, что продаётся и покупается, что имеет значение для каждого… кроме меня.
Чуть побольше бы тебе любопытства, чуть поменьше любви, Клодина, и ты тоже стала бы добычей свежей всепожирающей плоти, ставшей наваждением для Анни! И ты тоже давала бы своему больному бреду преходящие имена: Марсель, Поль, этот, тот, малыш шофёр, грум из «Палас-отеля», ученик коллежа Станислава… Ты, конечно, можешь презирать невоздержанность Анни, поскольку самоё тебя ещё не мучит эта жажда… но лучше тебе над ней не смеяться: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
– Ай! Уй-юй-юй… никогда ещё не было так больно! Кровь идёт, а?
– Да, зато всё прошло, выдавила.
– Точно? С корнем?
Очнувшийся Марсель прикладывает к виску платок, а я с задумчивой недоброй проницательностью смотрю, как он принимает из рук Анни зеркало, «чтобы посмотреть дырку», и с облегчением вздыхаю:
– Да, всё прошло.
Два часа. Время кофе, многополосных газет, крепкой сигареты, голубого дыма… В такие минуты человек чувствует себя вялым и снисходительным. Уходя из столовой, мы открыли там широкое окно и успели замёрзнуть: «Поднимается туман – вечером опять приморозит», успели разглядеть быстрый бег облаков, распластавшихся по небу подобно холодным синим крыльям, успели завистливо поругать Перонель, сидящую себе спокойно, словно ещё лето, на ледяном крыльце и созерцающую пейзаж – холод нипочём её плотной шубке… Посмотришь на неё – и кажется, на дворе всё ещё август… А мы возвращаемся к огню, к столу со свежими субботними журналами – их только-только вынули из картонных трубочек-упаковок, и страницы у них загибаются, как стружка. Жирные чёрные фотографии, а между ними втиснут, разрубленный на куски, придушенный – две строчки тут, три там, потом четыре полустроки, почти иероглифы, а конец над портретом госпожи Деларю-Мадрю – текст, к которому, право же, следовало бы относиться с большим почтением. Мои глаза поглощают забавную смесь из рассказов о тенорах, собаках, пловцах, поэтах-герцогинях, титулованных шофёрах, и я устаю от мысли, что где-то далеко столько народу занято такими изнурительными делами…

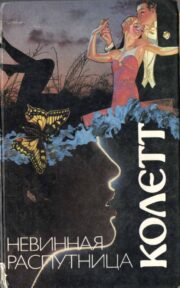
"Возвращение к себе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращение к себе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращение к себе" друзьям в соцсетях.