– Чистом ангелочке?
– Святой куртизанке!
– ?
– Это прозвище у него было такое в лицее Марата – «святая куртизанка», – когда мы познакомились. Правда, правда… У них там вообще существовала целая сложная иерархия – начитались Флобера и «Короля Юбю»[6]… Я три недели развлекался. Они и меня, вы не поверите, наградили «как иностранца» орденом «Элифаса Говноносца». Я бывал у них по субботам…
– Представляю себе, что там творилось в эти дни!
– Да уж это точно! Из-за каждой двери выглядывает мордашка, кто хихикнет, чтобы я обернулся, кто уронит платочек, кто заденет меня локтем: «Ах, простите», и письма анонимные писали, и прочие знаки внимания оказывали… Что за время!.. Ах, юность, юность!
– Скажите на милость, какой древний старец нашёлся!
Он недовольно заёрзал в кресле и взглянул на меня с нескрываемым презрением.
– Нет, даже самая умная из женщин – а это и есть вы, Клодина! – не может уследить за ходом мысли. Я же не о своей юности, я их жалею! Что с ними станется, с милыми крошками? На одного сохранившего белую гладкую кожу и изящную фигуру придётся не меньше сотни несчастных хриплых петушков, прыщавых, с проклюнувшейся бородкой – они сами себя стыдятся и по дури своей приударяют за кухарками… Кисти у них грубеют, голос ломается, а нос – о-о-о! – что у них с носом творится! И шерсть по всему телу, и… Они становятся молодыми людьми, если хотите, но исчезает пьянящее очарование юности, безупречная и – увы! – недолговечная красота подростка… свежесть плоти…
«Свежесть плоти…» Где-то я уже слышала эти сладострастные, словно поцелуй, слова. Ах да! Анни… Что она тогда говорила? «Сохрани вас судьба, Клодина, от искушения свежей плотью!.. Вы об этом и понятия не имеете!..» Молодые глупые людоеды – вот они кто оба! О любви толкуют как о вкусном блюде! Как им объяснить… А впрочем, зачем? И я, полная сознания собственной значимости и осведомлённости, лишь из воспитанности желаю спокойной ночи приёмному сыну, изящному Пьеро с шелковистой шапкой светлых волос, такому грустному в своей белой фланели…
Если бы вы видели, дорогой Рено, как разумно и спокойно я пожимаю плечами, читая ваше сегодняшнее письмо – вы в нём строите планы летнего побега (с таким обилием подробностей, что другого бы это могло обмануть – на самом деле вы не слишком любите упорядоченность), из месяца в месяц, изо дня в день!
«В июне мы удерём из Парижа в Монтиньи, месяца, на полтора, а в конце июля – в Виттель… А после, где-нибудь в середине сентября, нужно обязательно прокатиться в Форе-Нуар – этакий старомодный, в стиле последней империи, вояж… Что вы на это скажете, дорогая?»
Что скажу? «Да», разумеется. Если бы я ответила «нет», вы бы сначала обиделись, а потом принялись бы разрабатывать другой маршрут, нашли бы другой спасительный способ забыть о своём артрите… Если бы всё зависело только от моего согласия! Да куда хотите, и как хотите… Рядом с вами – мне достаточно самого вашего присутствия – я чувствую себя вполне довольной жизнью и с безразличием отворачиваюсь от будущего. Я вступаю в это будущее, пятясь задом наперёд, не беспокоясь о том, что меня ожидает.
Но не беспокоиться о будущем – не значит смиренно ждать. Стоит вам где-нибудь задержаться, стоит стакану прохладной воды появиться на минуту позже, когда меня мучит жажда в летний зной, стоит персику, который мне хочется съесть, промедлить и вовремя не зарумяниться, я вся дрожу от нетерпения, и мой исступлённый вздох приподнимает смертельную тяжесть невыносимо долго тянущегося времени… но от этого я не становлюсь похожей на вас: до чего скучно, когда заранее расписан целый год, когда вам «подают на тарелочке» все двенадцать месяцев!
Будь что будет, вот и весь сказ! Да какое там будет, уже есть! Жизнь идёт независимо от вас и ваших тщательных расчётов. Вам же нравится, что я не люблю в самые тихие часы нашего уединения спешить и… удваивать темп. Так почему вы не хотите, чтобы я прожила каждый день как один, неповторимый день, почему хотите заставить меня наслаждаться и этим, и будущим годом сразу?
Когда я была маленькой, меня посетила, может быть несколько преждевременно, фея великой мудрости, оставив на радостном полотне моих самых безоблачных дней несколько печальных предупреждений, сладкую горечь которых тогда ещё мне не дано было понять. Она мне сказала… Вы, наверное, вообразили себе красавицу в белом, с диадемой в волосах, что предстала мне в тени старого орешника? Ничего подобного! Это был просто «внутренний голос»: на мгновение болезненно застыла мысль, застыло всё моё маленькое, здоровое, подвижное и довольное существо, приоткрылась дверь, которая обыкновенно бывает наглухо задраена для детей такого возраста… И мудрость сказала мне: «Стой, оглянись, ощути, как чудесен этот миг! Разве в той жизни, что стремится тебе навстречу, будет ещё такое белое солнце, такая иссиня-лиловая сирень, такая интересная книжка, такой струящийся сладким соком плод, такая свежая постель с грубыми белыми простынями? Станут ли эти холмы для тебя прекраснее? Сколько ещё осталось тебе радоваться просто тому, что ты живёшь, что пульсирует в твоих жилах кровь? Всё в тебе так юно, что ты и не думаешь о своих руках, ногах, зубах, глазах, нежных губах, которым предстоит увянуть. Когда придётся тебе испытать первый удар судьбы, познать первую потерю?.. Лучше тебе желать, чтобы время остановилось, чтобы ты подольше оставалась такой: не взрослела, не задумывалась, не страдала! Попробуй захотеть этого сильно-сильно, и, может, тогда найдётся где-нибудь божество, которое сжалится над тобой и внемлет твоей просьбе!..»
Однажды я рассказала об этом вам, Рено. И вас не рассмешило прозрение маленькой девочки, вы устремили на меня, в самую глубину моих глаз, чёрный, мстительный взгляд, полный глупой упрямой ревности, – он дразнит и очаровывает меня, он словно кричит:
«Не смей больше рассказывать, что было время, когда я ещё тебя не знал!»
– Это я, Анни… У вас случайно нет… вазелина или крема какого-нибудь, или глицерина? У меня губа лопнула, а я её, как назло, всё время прикусываю…
Анни открывает дверь и удивлённо застывает на пороге: она заплела волосы на ночь в толстую чёрную косу, которая придаёт её облику что-то китайское и жалобное. Я извиняюсь, пускаюсь в объяснения – раньше я практически ни разу не заходила в спальню к Анни. Совершенно очевидно, что она не терпит чужого присутствия в своих владениях, моего в том числе. Может быть, боится, что жёлтые портьеры, белые стены с фризом из поддельного чёрного дерева, невыразительная белая, как в престижном отеле, мебель проговорятся о том, как она проводит беспокойные полусонные ночи? Но в комнате и не пахнет тайной, мой нюх не обнаруживает даже намёка на индивидуальность – разве что аромат экзотической дорогой древесины, которым благоухает, готова поклясться, тело самой Анни, не признающей искусственных запахов…
Типичное жилище путешественницы – глаз так и ищет в углу дорожную сумку… На письменном столе – нетронутая бумага, ржавое перо. Ни одно лицо не улыбнётся вам с фотографий на голых стенах. Когда моя подружка снова соберётся в бега, ей останется лишь забрать роман, что лежит, распахнутый, на разобранной постели, да смятый платочек со стола – и всё: ничто в этой безымянной комнате не напомнит об Анни…
Моя странная хозяйка стоит и слушает меня: синие покорные глаза на смуглом лице, рот приоткрылся, придав Анни такое недовольное выражение, что мне одновременно хочется и рассмеяться, и поколотить её…
– Крем для губ?.. У меня нет… его вообще в этом доме никогда не бывало… Нет, постойте-ка!
Она открывает шкаф, роется в тёмном ворохе и возвращается ко мне чрезвычайно довольная.
– Вот, держите. От трещин, наверное, помогает.
На коробочке, которую она мне протягивает, значится: «Театральный грим, рашель».
– Но… это же для сцены! Где вы его стянули, Анни?
– Я его не стянула. А купила, когда было нужно. Правда, с тех пор он мог прогоркнуть.
– Играли в домашней комедии?
– Да нет, – вздыхает она устало. – В театральной пантомиме. Я несколько дней представляла в пантомиме.
– И где же? За границей?
Мои вопросы звучат сухо, я оскорблена, обижена, что она скрыла от меня такое – или сочинила? Она садится на постель и проводит ладонью по лбу. Я хватаю и встряхиваю худенькую ручку, выскользнувшую из бледно-голубого пеньюара.
– Вы смеётесь надо мной, Анни?
Она улыбается, почувствовав, как я на неё рассердилась. В комнате жарко, дремлет огонь под белёсой бархатной золой… Я подталкиваю Анни бедром, чтобы она пустила меня на мягкую перину, и усаживаюсь рядом с ней, радуясь, что услышу сейчас новую интересную историю, что моя подружка снова заговорила, что уже так поздно и по ставням стекает шелковистыми струйками зимний дождь…
Обняв колени руками, сжавшись, Анни начинает рассказ:
– Ну так вот… Помните, в театре «Патюрен» провалился спектакль? Тогда в один вечер шла маленькая опера в двух актах, очень трагичная, под названием «Старая королева», потом «Картины, вырванные из жизни», где убивают всех и вся, потом студенческие сценки и, наконец, пантомима: «Господь, Мираж и Власть».
– Хм… что-то смутно припоминаю.
– Не сомневаюсь. За две недели театр разорился. Но пантомима, между прочим, была прелестная… Я играла в ней юную рабыню, рвавшую розы, в конце её уносил Фавн.
– Неужели правда?.. Вы играли в театре? Она улыбается без всякого тщеславия:
– Я этого не говорила. Клодина. Я участвовала в пантомиме… Разве это сложно? И потом, я вынуждена была. Надо вам сказать…
Она тщательно собирает в мелкие складочки пышный воротник батистовой ночной рубашки, выбившийся из-под халата…
– Незадолго до того я познакомилась с одним «комедиантом», как они сами себя называют. Он ещё не кончил Консерватории.[7] Нет! Он не был никудышным актёром! Студенческую премию получил… Но даже премированный ученик и профессиональный трагик, к несчастью, не одно и то же… Вот он и исполнял незначительные роли у Сары: играл сеньора Вандрамена, пажа Орландо, и всё благодаря ногам… У него были такие ноги…

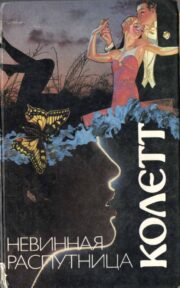
"Возвращение к себе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращение к себе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращение к себе" друзьям в соцсетях.