Разве я могу умереть, мучительно размышлял он, когда мои родители еще живы? Бабушка и дедушка умерли, когда им было далеко за восемьдесят. Потом стал думать о тех, кому его смерть принесет горе, но это лишь усилило панику, ему даже показалось, что он вот-вот потеряет сознание.
Так Оливер лежал на диване, потеряв чувство реальности и времени. Кто-то укрыл его одеялом, но он все равно ощущал ледяной холод во всем теле.
— Ничего страшного, все будет в порядке, — повторял председатель, и его толстое лицо изображало то ли смятение, то ли раздражение.
Я сорвал первое знакомство с денежным клиентом, подумал он, мучительно представляя себе, как к этому отнесутся его партнеры. «Бедный старик Оливер. Жалко этого сукина сына».
Двое санитаров в белых халатах, пахнущие лекарствами, положили его на каталку. Он увидел, как к его лицу приближается кислородная маска. И еще он с удивлением увидел собственный палец, который поманил кого-то. В тот же миг к нему приблизилось лицо Лараби.
— Позвоните моей жене, — хрипло прошептал Оливер. После этого кислородная маска плотно легла ему на лицо, и он почувствовал, как покатились носилки. Оливер отчетливо услышал звук открывающихся дверей и режущий слух сигнал «скорой помощи», когда машина рванулась вперед с бешеной скоростью. Холодный стетоскоп прикоснулся к его почему-то уже голой груди.
— Кто знает? — услышал он чей-то голос, когда стетоскоп убрали.
— Я умираю? — беззвучно прошептал он под маской. Он глубоко вздохнул, и на секунду боль отпустила, но тут же навалилась с новой силой. На какое-то мгновение сознание затуманилось, но почти сразу же вернулось, когда он представил себе мучительную картину: над ним наклоняется Барбара с выражением отчаяния и боли на лице, а рядом стоят испуганные Ева и Джош, с ужасом смотрят на него, ожидая того момента, когда смерть навсегда отнимет у них отца. Я убью их своей смертью, мучительно думал он.
В его мозгу тысячами проносились какие-то глупые ненужные вопросы. Кто будет кормить Бенни? Кто станет готовить вино, работать в саду, заводить старинные большие часы из красного дерева? Кто возьмется чинить вышедшие из строя электроприборы, ухаживать за старинными вещами, картинами, стаффордширскими статуэтками? Кто починит «Феррари»? Как смели отобрать у него всю его домашнюю работу, все то, что его так давно окружает? Эта мысль, казалось, была даже страшнее боли.
Он почувствовал, как ему сделали укол в руку, и вскоре боль утихла. Он теперь как бы парил в безвоздушном пространстве, словно космонавт в открытом космосе. До его сознания доходили воспоминания о каких-то кошмарах, но он никак не мог вспомнить, каких именно, знал только, что они ужасны. Потом почувствовал, как под ним движется пол, и понял, что его везут по коридору. Высоко над ним, на потолке горели яркие флюоресцентные лампы. Ему было больно смотреть на них.
Когда с него сняли кислородную маску, он опять прошептал:
— Позвоните моей жене. Позвоните Барбаре.
Ему смутно казалось, что его куда-то подвесили, и откуда-то издалека доносились странные, незнакомые звуки. Рядом с собой он продолжал слышать ласковые тихие голоса, витавшие где-то поблизости в космосе, в котором он побывал. Он знал, что если они смогут вовремя найти и позвать Барбару, то все будет хорошо. Его жизнь зависит только от Барбары. Он ни за что не умрет, если придет Барбара.
ГЛАВА 4
Когда он пришел в сознание, в комнате было темно; он слышал странные звуки, что-то вроде «тик-так», словно он находился внутри огромных часов, может быть, в тех, из красного дерева, что стояли у них в гостиной. Он отчетливо слышал качание маятника, в то время как в его сознании один за другим возникали знакомые образы. Память возвращалась к нему и снова ускользала. Вот они с Барбарой проводят свой медовый месяц в гостинице Гротон-Инн — старом, покосившемся доме, доставшемся его владельцу еще от первых колонистов. Стол в гостиной, казалось, всегда был накрыт к чаю.
Для июня было слишком жарко. Солнце накаляло крышу, и им с Барбарой было очень душно в постели. Она не отдавалась ему со всей страстью, как до свадьбы, и он приписывал это волнениям, с которыми им пришлось столкнуться. Родители Оливера и Барбары были против их брака. Ему нужно учиться еще два года, чтобы получить диплом адвоката, ей тоже предстояло еще два курса до окончания Бостонского университета.
— Я могу работать и учиться одновременно, — заявил он своим родителям в тот жаркий весенний день, когда объявил о своем решении. Нет, они ничего не имели против Барбары, просто он не должен испортить будущую карьеру, женившись на бедной девятнадцатилетней девушке и взвалив тем самым на свои плечи непомерный груз ответственности.
— Но я люблю ее, — протестующе уверял он, словно эти слова объясняли столь ответственный поступок, который должен был изменить всю его жизнь. Он не без оснований полагал, что протест вызван крахом их собственной жизни и надеждами на его блестящее будущее. Он старался быть с ними помягче. Мысль о том, что их единственный сын станет безработным, была для них невыносима.
— Я бы очень не хотел быть неблагодарным и ни за что не оставлю вас без средств к существованию, — пообещал он им, зная, как нелегко даются им деньги на его образование, — но я просто ни минуты не могу без нее жить, — шел 1961 год, никаких сексуальных революций тогда еще не было и в помине, и они не могли себе позволить жить вместе, не будучи женатыми.
— Ты сошел с ума, — заявил тогда отец. Мать же молча сидела за кухонным столом и плакала.
— И я не собираюсь просить вас оплачивать мое дальнейшее обучение, — заявил он. — Теперь у меня своя жизнь, — он поколебался, — вместе с Барбарой.
— Мы вполне можем сами о себе позаботиться, — заверила его Барбара.
Ее родители пришли в еще большее смятение. Они преподавали в университете, и мысль о том, что ей придется бросить учебу, просто убила их.
— Я люблю его, — заявила она. В то время три этих слова говорили сами за себя и звучали как самое надежное заверение. Любовь означала все на свете. Они были как помешанные. Он вспоминал, как хотелось коснуться Барбары, вдохнуть ее запах, услышать ее голос.
— Я люблю тебя больше всего на свете, — говорил он ей без конца. Он даже на минуту не в силах был выпустить ее из объятий.
— Я готова умереть ради тебя, Оливер, — поклялась она тогда.
«Умереть?» — его мозг словно озарила какая-то вспышка.
Он никак не мог понять, почему он думает об этом, лежа здесь, в этой темной комнате. Внезапно Оливер с удивлением почувствовал, что у него эрекция, простыня немного приподнялась. Что ж, значит, я еще не умер, подумал он, обнаруживая, что больше не чувствует боли. Врачи, по всей видимости, напичкали его какими-то успокоительными таблетками или еще чем-то, и теперь он пребывал в странной полудреме, слыша тихие слова, которыми обменивались окружавшие его врачи и которые, как он был уверен, касались непосредственно его состояния. Каждую секунду он готов был услышать звук каблучков Барбары, спешащей по коридору, и почувствовать ее нежное прохладное прикосновение.
Он почему-то начал думать о стеклянной горке времен Людовика XV[19] из инкрустированного тюльпанного дерева с подлинными гранеными стеклами и резным орнаментом, которую он так хотел купить. Но Барбара отговорила, хотя он спорил с ней до хрипоты. Однако логика была на ее стороне.
— У нас нет места, — заявила жена, сжимая его дрожащую руку. Продавец пристально посмотрел на него.
— Но она же великолепна?
— Наш дом переполнен мебелью, Оливер.
Она, конечно, права; он вспомнил, что эта мысль потом ему не давала покоя несколько недель. Переполнен? Они начали обставлять его десять лет назад, с того самого момента, как увидели этот старый, облупленный фасад и восхитились великолепным видом из окон на парк с одной стороны и на высокие, красивые арки моста — с другой. Между прочим, у них оказались самые престижные соседи, а в Вашингтоне положение человека в обществе во многом зависит от того, в каком окружении он живет.
В течение долгих лет этот дом, как зыбучий песок, тянул из них каждый лишний цент — они ремонтировали, чинили, отделывали его и снаружи и внутри, постепенно, комната за комнатой.
Потом он снова погрузился в полузабытье, а очнувшись, почувствовал под собой движение носилок и увидел бесконечный ряд люминесцентных ламп под потолком.
— Мы везем вас на рентген, — объяснил ему неф-санитар. Оливер слышал, как санитар обсуждал с кем-то футбольный матч, пока они ехали в лифте. Наверное, решил Оливер, к нему пока не пускают посетителей, и представил себе Барбару, сидевшую где-нибудь в приемной, нервничавшую и с ужасом ожидавшую результатов анализов. Ему захотелось спросить: «Неужели я действительно умираю?», но он боялся услышать ответ, поэтому промолчал.
Оливер вдруг забеспокоился о своих орхидеях, которые он с такой гордостью и заботой пересаживал в горшочки и заносил в дом и которые теперь уже почти выросли и цвели в оранжерее позади целого леса из лиан и зарослей африканских фиалок и бостонских папоротников, о которых заботилась Барбара. Они так нежны и хрупки, что даже дотрагиваться до них страшно.
Он вспомнил и о Бенни, своем шнауцере, который боготворил хозяина и готов был выполнять для него все команды. Ни Барбара, ни дети не смогут справиться с ним. А инструменты, они ведь тоже требуют особого ухода, а сад… А кухня Барбары…
«Господи, не дай мне умереть именно сейчас!» — молился он про себя, чуть не плача.
Его положили на холодный рентгеновский стол и распяли как цыпленка на сковороде. Техник в белом комбинезоне деловито поколдовал над аппаратом, и Оливер услышал легкое гудение, какой-то частью сознания понимая, что сейчас на экране высвечиваются все его внутренности. «Почему я больше не чувствую боли?» — подумал он и вдруг заметил, что часы на стене показывают двенадцать.

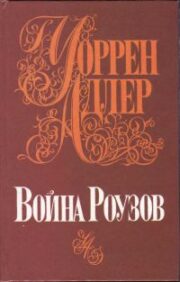
"Война Роузов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Война Роузов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Война Роузов" друзьям в соцсетях.