– Но я же тебе рассказала! Только тебе. Об этом, кроме тебя, никто не знает! – И это было чистой правдой – Людке я не успела рассказать, потому что она с родителями застряла в Анапе – учебный год начался, а они никак не могли купить билеты обратно. – Так можно пригласить его в гости?
– Когда, ты говоришь, он должен приехать?
– Пятнадцатого, через три дня.
– Так это, выходит, суббота, что ли, я не пойму никак?! – раздраженно воскликнула она.
– Ну да!
– Как неудачно! Как все неудачно получается! – Мама ходила по комнате, заламывая руки от отчаяния, только я никак не могла понять, откуда оно взялось – это ее отчаяние. На мой взгляд, все складывалось просто прекрасно: у родительницы в субботу выходной, баба Зоя в пятницу вечером неизменно отправлялась к глупому неустроенному Ленчику – проведать его и посмотреть, не надувает ли его очередная мерзавка какая-нибудь или жлобка, не пригрел ли сынок на своей груди с таким горячим сердцем (безрассудным) змею очередную подколодную, не окрутила ли уже его снова какая-нибудь дрянь – наивного ее мальчика!
– Да почему неудачно? Что, мне нельзя своего спасителя в гости пригласить? Я-то у него целый месяц гостила, а он не может приехать, посмотреть, как мы живем? – всхлипывая, удивлялась я.
– Понимаешь ли... – замялась мама, – В субботу меня не будет дома... Бабушка уедет... Меня тут на выставку пригласили... – Она покраснела – явно была смущена чем-то.
– Кто пригласил?
– Неважно...
– На какую выставку? Что за выставка?
– «Изящная палехская миниатюра»! – так называется.
– А кто пригласил? – привязалась я.
– Я же сказала – неважно!
– А я-то думала, что мы с тобой подруги, думала, между нами никогда не будет секретов, – заканючила я, передразнивая ее.
– Ну, Юра Макашов! – выпалила она. – Что, легче стало?
– Который мне голую гипсовую бабу подарил?
– Он самый. Это у него, кстати, выставка.
– А как он тебя нашел?
– А чего меня искать-то?! Позвонил Ленчику, тот ему мой телефон дал.
– Обалдеть! – Я действительно в этот момент потеряла способность соображать. Неужели в маминой жизни появился тот самый Юрик Макашов, который был влюблен в нее до беспамятства, все пытался ее, обнаженную, запечатлеть на века, а когда, отдыхая в Палехе, мамаша поменялась с тетей Лидой ботинками и стерла в кровь все ноги, он ее два километра до дома нес?! – Мам! А он женат?
– Прекрати!
– Что тут такого? Спросить нельзя?
– Не женат.
– А дети есть?
– Отвяжись.
– Не-е, ну правда, – ныла я. – Слушай-ка, а я, случайно, не его дочь?
– Ты что, с-совсем, что ли, с ума с-сошла?! – Мама даже заикаться начала от моих фантастических подозрений, но я, применив сей отвлекающий маневр, добилась своего – Варфику было разрешено появиться у нас дома в мамино отсутствие. Бабушке мы вовсе говорить ничего не стали, дабы избежать лишних сцен и истерик.
Тринадцатое и четырнадцатое сентября – безжалостно вычеркнуты из жизни, как бездарно прожитые.
Пятнадцатое! Наконец-то!
С самого утра наша квартира стала похожа на сумасшедший дом – мама не знала, в чем пойти на выставку, и металась от зеркала к гардеробу, я сидела у телефона, не сводя с него глаз.
Наконец мамаша оделась и, велев мне вести себя благоразумно, выпорхнула из дома в состоянии крайнего возбуждения и нервозности, связанного не иначе как с недовольством своим внешним видом.
Через час после ее ухода телефон все же зазвонил – весело и призывно. Я схватила трубку.
– Дуняша?
– Да, Варфик, это я, я! – сдавленным от волнения голосом, писклявым от напряженного ожидания и боязни, что любимый принц мой может не позвонить, пролепетала я.
– Красавица! Я почти у твоего дома! Из телефонной будки звоню!
Спустя еще полчаса он появился передо мной с охапкой пурпурных крупных гвоздик на длинных ножках. Я замешкалась, засуетилась, заметалась – кончилось тем, что я уронила гвоздики в коридоре. Мы оба сели на пол и принялись их собирать. Воткнули их в самую большую, какая только имелась у нас в доме, вазу. Потом я едва было вместе с вазой не грохнулась. Странное чувство овладело мною – мне не верилось, что все происходящее – явь. Показалось даже, что и месяц, проведенный у моря, в приземистом домике с плоской крышей и увитой виноградом верандой, тоже был сном – прекрасным, волшебным, фантастическим. «Не могло со мной произойти подобного чуда!» – даже такая мысль пронеслась в моей голове.
– Да что с тобой, Дуняша? Ты как будто отвыкла от меня? – И Варфик посмотрел мне в глаза. – Или разлюбила?
– Нет! Что ты! – с жаром запротестовала я. – Просто мне сейчас вдруг почудилось, что ты – сон, то есть ты снишься мне. И море, и месяц, проведенный у вас дома, – все сон, потому что я такого подарка судьбы не достойна!
– Почему?
– Не знаю. Я так чувствую, что не достойна.
– Ты себя недооцениваешь! Тебе надо с этим бороться! А где кольцо? Почему ты его не носишь?
– Я спрятала... От мамы... Бабушки... Чтобы лишних вопросов не задавали.
– Ты точно разлюбила меня. – Он подозрительно смотрел на меня.
– Нет! Как ты не прав в моем случае! Как не прав! – Я стояла перед ним, заламывая руки, щеки мои горели, губы были сухими, и слова произносились мною словно в бреду каком-то, в лихорадке. – Я приехала в Москву сама не своя, совсем другая, понимаешь? Все изменилось во мне, все я стала воспринимать иначе, видится мне все иначе – не как прежде! Самые пустячные вещи! Вон тот тополь, смотри! – И я указала на тополь с листвой цвета недозрелого лимона. – Я раньше его даже не замечала! Прожила тут десять лет – и не обращала на него никакого внимания, а ведь он всегда тут был! Всегда! Не мог же он за мое отсутствие вырасти? За месяц всего! Не мог, – ответила я сама себе и, замолчав на минуту, продолжила: – Так вот, как только я приехала, я все время только и делала, что вспоминала каждый день, проведенный с тобой, – по минутам, начиная с того момента, как увидела тебя впервые – на веранде, под увитым виноградом потолком с тяжелыми, налитыми янтарно-оливковыми лозами, с утюгом в руке. Знаешь, я тогда испугалась тебя и этого утюга. Мне вдруг показалось, что ты как возьмешь да и запульнешь им в меня! Вспоминала каждую мелочь, любое ощущение переживала заново тысячу раз – раскаленный песок под ногами, плеск волн, прикосновение твоих губ... Свой первый поцелуй никак не могла забыть! Это же был мой первый поцелуй, тогда, по дороге к морю! Глупо, наверное, что я тебе говорю сейчас все это! Боже мой! Как, наверное, это выглядит глупо! Девушкам такое нельзя говорить! – ужаснулась я, но остановиться не могла и все рассказывала, признаваясь в том, в чем не следовало, быть может, признаваться. – А как я ждала твоего письма! Я несколько раз в день бегала вниз по лестнице, как сумасшедшая, проверить, нет ли письма, но ты все не писал и не писал... И я испугалась – так вдруг испугалась, что ты вовсе мне не напишешь, что жить дальше не хотелось, потому что никого прекраснее, интереснее и любимее тебя у меня теперь нет!.. – Я, наконец, замолчала – выбилась из сил, доказывая его неправоту по отношению ко мне.
– Бедная, бедная моя Дуняша! Я писал тебе и думал, что письмо уже дошло, но не тут-то было – мамаша перехватила его! Это я виноват. Нужно было съездить в город и отправить его с почты, а я отдал его в руки нашему почтальону, мамашиному знакомому.
– Я не поняла, она что, твое письмо перехватила? – изумленно спросила я, и Варфик кивнул:
– Ага, я потом нашел его у нее – в нижнем ящике комода.
– А ты бабушку с дедом видел? – вдруг опомнилась я.
– Нет еще. Мне надо скоро идти, предков в объятия заключить и на поезд успеть.
– А когда поезд? – испуганно спросила я.
– Через два с половиной часа.
– У нас совсем нет времени! – ужаснулась я и снова затараторила: – Ты мне из армии пиши, я тебя обязательно дождусь, – а он уверял меня, что, как только вернется, сразу женится на мне – плевать он хотел на Хатшепсут, и мало ли что его родители наобещали ее родителям – это их дело!
За разговорами, за горячими, многочисленными торжественными признаниями, обещаниями и клятвами, которые сводились к одному и тому же – к заверению в вечной любви и верности, время шло себе и шло, безучастное и абсолютно равнодушное к нам, и дошло, наконец, до того, что нам с Варфиком нужно было немедленно оторваться друг от друга и плыть отныне каждому в своем направлении.
Принц поцеловал меня на прощание. И поцелуй этот был похож на тот – самый первый. Все внутри меня, как и тогда, на море, перевернулось, будто с ног на голову встало, мысли утончились и, превратившись в туманную дымку, заполнили мозг, голова закружилась, тело приятно обмякло, и все невзгоды и печали (даже то, что мы расстаемся с Варфиком на два года) были забыты в это мгновение.
– До свидания, Дуняша, мне пора, – промолвил он и собрался уходить.
– Ты сейчас куда?
– На Рогожский рынок.
– Я с тобой! – воскликнула я и вылетела вместе с Варфиком прямо в домашних туфлях.
Мы мчались по городу, как мне казалось, со скоростью света – перед глазами мелькали витрины, вереницы машин, хилые, слабые, болезненные деревья, высаженные на пятачках земли среди заасфальтированного города, люди, много людей – они толкались, злились, крича нам вслед: «Ненормальные!», «Смотреть надо!» или «Как танки прут!». Но мы не останавливались до тех пор, пока я не наткнулась на важного упитанного гражданина с усами и портфелем, который он не выпускал из рук, сидевшего посреди улицы на табурете; одна нога его исчезла в узенькой белой будке, в которой с трудом поместилось бы два человека, снизу доверху заставленной склянками из-под пенициллина самых разных цветов и оттенков – от белого до черного.
– Это краски для подкрашивания ободранных носков и пяток, – пояснил Варфик.
Чего только не было в этой микроскопической обувной лавке! И вакса, и войлочные стельки, и образцы всевозможных набоек и наклеек, и каблуки, которые напомнили мне почему-то чьи-то вывалившиеся изо рта гигантские зубы, и металлические подковки для обуви, и щетки...

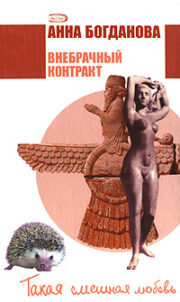
"Внебрачный контракт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Внебрачный контракт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Внебрачный контракт" друзьям в соцсетях.