– Вы уверены, что вам на этом удобно? – спросила она, нажимая рукой на подушку.
– Вполне, – холодно ответил он.
– Вы не мерзнете? Здесь нет стеганого пухового одеяла. Мне кажется, вам оно нужно. Не стоит кутаться в одежду.
– У меня есть одеяло. Его скоро привезут.
Они сделали в комнатах все замеры и обсудили все детали.
Урсула стояла у окна и наблюдала, как женщина несет поднос с чаем к берегу реки. Ей была невыносима пустая болтовня Гермионы, ей хотелось чаю, она была готова на все что угодно, только бы убежать от этой суматохи и деловой атмосферы.
Наконец все вышли на поросший травой берег, чтобы с наслаждением перекусить на свежем воздухе. Гермиона разливала чай. Теперь она и вовсе не обращала на Урсулу никакого внимания. А Урсула, больше не ощущая на себе ее странного юмора, обернулась к Джеральду:
– О, мистер Крич, совсем недавно я вас просто ненавидела.
– За что? – спросил Джеральд, удивленно отшатываясь.
– За то, что вы так плохо обращались со своей лошадью. Как же вы мне были ненавистны!
– Что он такого сделал? – пропела Гермиона.
– Он заставил свою чудесную, нежную арабскую лошадь стоять у железнодорожного переезда, когда мимо проезжали эти ужасные платформы; бедное создание, она чуть не сошла с ума от страха, она была в настоящей панике. Это было самое кошмарное зрелище, какое только можно себе представить.
– Зачем ты это сделал, Джеральд? – холодно поинтересовалась Гермиона.
– Она должна научиться превозмогать себя. Зачем она нужна мне в этой местности, если она вздрагивает и начинает брыкаться всякий раз, когда раздается гудок паровоза?
– Но разве стоило подвергать ее ненужной пытке? – спросила Урсула. – Зачем было нужно все время держать ее у переезда? С таким же успехом можно было отъехать вверх по дороге и избежать этого кошмара. Вы пронзали ее бока шпорами, и она обливалась кровью. Это было так ужасно!
Джеральд напустил на себя высокомерный вид.
– Мне придется ездить на ней, – ответил он. – И если я хочу быть уверен, что в любой ситуации она меня не подведет, ей придется научиться не бояться шума.
– Почему же? – страстно вскричала Урсула. – Она ведь живое существо, почему она должна превозмогать себя только потому, что вы так пожелали? Она имеет такое же право распоряжаться собой, как и вы.
– Тут я с вами не соглашусь, – сказал Джеральд. – Я считаю, что кобыла должна делать только то, что приказал ей я. И не потому, что я купил ее, а потому, что так заведено. Для человека более естественно использовать лошадь так, как ему захочется, нежели бросаться перед ней на колени и умолять ее сделать так, как он просит, и выполнить свое чудесное предназначение.
Урсула только было попыталась вставить слово, как Гермиона подняла подбородок и затянула свое тягучее песнопение:
– Я и правда считаю – я действительно считаю, что мы должны иметь смелость использовать жизнь животного, стоящего на более низкой, чем мы, ступени развития, согласно нашим нуждам. Если честно, мне кажется, что неправильно было бы смотреть на каждое живое существо как на самих себя. По-моему, есть какая-то неискренность в переносе своих чувств на любое одушевленное существо. Это говорит о неумении понимать разницу между явлениями, о нехватке трезвого суждения.
– Действительно, – резко сказал Биркин. – Ничто не вызывает такого отвращения, как сентиментальность, которая проявляется, когда животных наделяют человеческими чувствами и сознанием.
– Да, – устало промолвила Гермиона, – мы должны занять определенную позицию. Либо мы будем использовать животных, либо они нас.
– Это факт, – сказал Джеральд. – У лошади, как и у человека, есть воля, хотя настоящего разума у нее нет. И если вы своей волей не подчините себе волю лошади, то тогда лошадь подчинит вас себе. С этим я ничего не могу поделать. Я не могу позволить лошади управлять мной.
– Если бы только мы научились использовать свою волю, – сказала Гермиона, – наши возможности были бы безграничны. Воля может исправить все, вернуть все на путь истинный. В этом я полностью убеждена – но только если волю использовать правильно и разумно.
– Что вы имеете в виду – разумно использовать волю? – спросил Биркин.
– Один великий врач многому меня научил, – сказала она, обращаясь не то к Урсуле, не то к Джеральду. – Например, он рассказал мне, что если хочешь избавиться от вредной привычки, нужно заставить себя ей следовать, когда тебе этого не хочется, – заставляй себя, и она исчезнет.
– Как это? – спросил Джеральд.
– Например, если грызешь ногти, то грызи их, когда тебе не хочется, заставляй себя. И тогда увидишь, что привычка исчезнет.
– А это действительно так? – спросил Джеральд.
– Да. И это применимо ко многому. Когда-то я была странной и нервной девушкой. А потом я научилась управлять своей волей, и простым усилием воли я сделала себя такой, какой я и должна была быть.
Урсула не сводила глаз с Гермионы, чей голос звучал так протяжно, так бесстрастно и в то же время был полон скрытого напряжения. Странная дрожь охватила девушку. Гермиона обладала какой-то удивительной, мистической способностью вызывать в людях дрожь, и эта способность притягивала, и одновременно отталкивала.
– Такое использование воли чревато последствиями! – резко воскликнул Биркин. – Это отвратительно. Такую волю иначе как бесстыдством не назовешь.
Гермиона пристально посмотрела на него затуманенным, тяжелым взором. Ее лицо было нежным, бледным и худым, почти прозрачным, губы плотно сжаты.
– Я уверена, что это вовсе не так, – сказала она через некоторое время. Казалось, ее слова и ощущения существовали отдельно от того, что она говорила и думала на самом деле, между ними была странная пропасть. Казалось, она тщательно взвешивает мысли, порождаемые водоворотом темных сумбурных ощущений и реакций, и эта тщательность, этот безупречный подбор мыслей, эта ее непогрешимая воля не вызывали у Биркина ничего, кроме отвращения. Ее голос всегда оставался бесстрастным и сдавленным, а также безгранично уверенным. В то же время она испытывала дурноту, похожую на ту, что возникает при морской болезни, и эта дурнота едва не захлестывала ее разум. Однако ум ее оставался непоколебимым, а воля нерушимой. Это вызывало в душе Биркина безумную ярость. Но он никогда, никогда бы не осмелился сломить ее волю – выпустить на свободу водоворот ее подсознания и посмотреть на нее в состоянии истинного безрассудства. И несмотря на это, он постоянно наносил ей удары.
– Естественно, – говорил он Джеральду, – лошади не обладают волей в буквальном смысле этого слова, у них нет такой воли, какая свойственна людям. У лошади не одна воля. Если говорить серьезно, то у нее их две. Одна воля заставляет ее полностью подчиниться человеку, в то время как другая тянет ее на свободу, заставляет ее быть дикаркой. Иногда эти воли пересекаются: если вы знаете, что чувствует седок, которого понесла лошадь, то вы понимаете, о чем я говорю.
– Подо мной тоже однажды взбунтовалась лошадь, – сказал Джеральд, – но при этом я не понял, что у лошади две воли. Я понял только, что она напугана.
Гермиона перестала прислушиваться к разговору. Когда разговор коснулся этой темы, она просто стала думать о чем-то своем.
– Почему лошадь должна хотеть добровольно подчиниться человеческой воле? – спросила Урсула. – Вот чего я никак не могу понять. Я вообще не верю в то, что она этого хочет.
– Еще как хочет. Ведь подчинить свою волю вышестоящему существу – это, пожалуй, любовь в самом крайнем, в самом возвышенном ее проявлении, – сказал Биркин.
– Какое у вас интересное представление о любви, – иронично усмехнулась Урсула.
– А женщина очень похожа на лошадь: в ней противоборствуют две воли. Одна заставляет ее полностью подчиниться. Другая же вынуждает проявить свой норов и отправить своего наездника навстречу смерти.
– Значит, я лошадь с норовом, – рассмеялась Урсула.
– Лошадей приручать очень опасно, так что уж говорить о женщинах, – сказал Биркин. – Поэтому не все придерживаются мнения, что их нужно подчинять себе.
– Уже хорошо, – заметила Урсула.
– Действительно, – с улыбкой добавил Джеральд. – Так еще интереснее.
Терпение Гермионы кончилось. Она поднялась с места и обычным тягучим голосом пропела:
– Какой красивый вечер! Иногда чувство прекрасного так меня переполняет, что мне кажется, будто я сейчас умру.
Урсула, к которой были обращены эти слова, встала вместе с ней, тронутая до глубины души. Сейчас Биркин был для нее воплощением ненависти и высокомерия. Они с Гермионой отправились вдоль берега и, собирая нежные первоцветы, разговорились о прекрасных, успокаивающих душу вещах.
– Хотелось бы вам, – спросила Урсула Гермиону, – иметь платье из хлопка этого оттенка желтого с такими оранжевыми крапинками?
– Да, – ответила Гермиона, наклоняясь, чтобы рассмотреть цветок и впуская эту мысль в свое сердце, позволяя ей успокоить себя. – Оно было бы очень красивым. Мне бы очень хотелось такое платье.
И она обернулась к Урсуле с искренне-теплой улыбкой.
Джеральд же остался с Биркиным, задумав испытать его до конца, понять, что он имел в виду, говоря о двойственной воле лошади. Лицо Джеральда отражало внутренне волнение.
Гермиона и Урсула продолжали свою прогулку, объединенные внезапными узами глубокой привязанности и родством душ.
– Я в самом деле не хочу ввязываться во всю эту критику и анализ жизни. На самом деле я хочу видеть мир, не разбирая его по кусочкам, когда он еще обладает красотой, цельностью и свойственной ему от природы непорочностью. У вас нет такого чувства, будто мы уже достаточно настрадались, стремясь познать мир разумом? – спросила Гермиона, останавливаясь перед Урсулой и сжимая опущенные руки в кулаки.

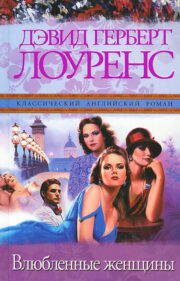
"Влюбленные женщины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Влюбленные женщины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Влюбленные женщины" друзьям в соцсетях.