– Да.
Последовала пауза, во время которой вечер окутал своей молчаливой, звенящей мертвенной бледностью бескрайние выси, бесконечность, до которой было рукой подать.
– Wohin?
Хороший вопрос – wohin? Куда? Wohin? Какое восхитительное слово. Ей не хотелось отвечать. Пусть это слово вечно звенит.
– Не знаю, – сказала она, улыбаясь ему.
Его лицо также осветилось улыбкой.
– Никто не знает, – сказал он.
– Никто не знает, – повторила она.
Повисла пауза, во время которой он быстро поедал вафли, как кролик поедает траву.
– Но, – рассмеялся он, – билет-то у тебя куда?
– О Боже! – воскликнула она. – Нужно же взять билет.
Это был удар. Она видела себя возле окошка кассы на станции. Но вот у нее появилась мысль, которая принесла ей облегчение. Она свободно вздохнула.
– Но ехать-то необязательно, – воскликнула она.
– Именно, – сказал он.
– Я имею в виду, что необязательно ехать в то место, что указано в билете.
Это было неожиданное решение. Можно взять билет, чтобы не ехать в указанное место. Можно сойти с поезда и отклониться от заданного направления. От определенной точки в пространстве. Это идея!
– Тогда возьми билет до Лондона, – сказал он. – Туда никогда не стоит ехать.
– Точно, – ответила она.
Он налил немного кофе в жестяную крышку от термоса.
– Ты скажешь мне, куда поедешь? – спросил он.
– Честно и откровенно, – призналась она, – я не знаю. Все зависит от того, в какую сторону подует ветер.
Он вопросительно посмотрел на нее, а затем сложил губы трубочкой, точно Зефир, и подул в сторону.
– Он дует в направлении Германии, – сказал он.
– Похоже, что да, – рассмеялась она.
Внезапно они увидели, что к ним приближается расплывчатая белая фигура. Это был Джеральд. Сердце Гудрун подскочило от внезапного, глубокого страха. Она поднялась на ноги.
– Мне сказали, что ты здесь, – раздался голос Джеральда, словно трубный глас, в беловатой сумеречной дымке.
– Мария! Ты появляешься как привидение, – воскликнул Лерке.
Джеральд не ответил. Он казался им сверхъестественным существом, призраком.
Лерке встряхнул термос – и перевернул его. Оттуда вытекло лишь несколько коричневых капель.
– Кончился! – сказал он.
Джеральд видел странную маленькую фигуру немца отчетливо и ясно, словно через бинокль. И она вызывала в нем крайнее отвращение, он хотел, чтобы она исчезла.
Тут Лерке потряс коробку с вафлями.
– Но вафли еще остались.
Не вставая с саней, он протянул руку и передал их Гудрун. Она неуклюже приняла коробку и взяла одну вафлю. Он бы предложил их и Джеральду, но было очевидно, что Джеральд не хотел, чтобы ему их предлагали, поэтому Лерке нерешительно отставил коробку в сторону. А потом поднял бутылку и посмотрел через нее на свет.
– И есть немного шнапса, – сказал он себе под нос.
Затем внезапно он галантным движением поднял бутылку – странная гротескная фигура – потянулся к Гудрун и сказал:
– Gnädiges Fraulein, – обратился он к Гудрун, – wohl...
Раздался звук удара, бутылка отлетела в сторону, Лерке упал навзничь, и все трое замерли, охваченные разными, но одинаково сильными чувствами.
Лерке посмотрел на Джеральда с дьявольской усмешкой на коричневом лице.
– Отличный удар! – сказал он с насмешливой демонической дрожью. – C’est le sport, sans doute.
В следующее мгновение он уже, смеясь, сидел на снегу – кулак Джеральда ударил его в челюсть. Но Лерке собрался, встал, дрожа, пристально посмотрел на Джеральда, и хотя его тело было слабым и хилым, в глазах горела дьявольская ухмылка.
– Vive le héros, vive...
Тут он весь обмяк, потому что Джеральд, охваченный черной яростью, налетел на него, и ударом кулака в челюсть, вновь свалил его, отбросив в сторону, точно куль соломы.
Но Гудрун подступила к нему. Она высоко подняла сжатую в кулак руку и опустила ее вниз, с силой ударив Джеральда по лицу и груди.
Он несказанно удивился, словно небеса разверзлись над ним. Его душа раскрылась широко, очень широко, чувствуя удивление и боль. Его тело рассмеялось, повернулось к ней, протянув сильные руки, чтобы, наконец, сорвать плод своего желания. Наконец-то его желание будет утолено!
Он сжал руками горло Гудрун – его руки были твердыми и невообразимо властными. А ее горло было таким прекрасно, таким восхитительно мягким. Кроме того под кожей чувствовались ускользающие жилки, поддерживающие ее жизнь. Это должно быть уничтожено, он может это уничтожить. Какое блаженство! О, какое блаженство, какое, наконец, наслаждение!
Его душа наполнилась ликованием утоленной страсти. Он смотрел, как последние искорки сознания покидают ее раздувшееся лицо, наблюдал, как закатились ее глаза. Какая же она уродливая! Какое блаженство, какое удовлетворение! Как прекрасно, о, как прекрасно это наконец-то дарованное ему Богом наслаждение! Он не чувствовал, что она сопротивляется и борется. Борьба станет ее последним порывом страсти в его объятиях! Чем сильнее она боролась, тем сильнее била его дрожь восторга, пока не наступил критический момент, пока борьба не достигла своей высшей точки – она перестала сопротивляться, движения становились все спокойнее, она постепенно замирала.
Лерке, лежавший на снегу, пришел в себя, но он был слишком оглушен, слишком разбит, чтобы подняться. Но в его глазах светился разум.
– Monsieur! – сказал он тонким возбужденным голосом: – Quand vous aurez fini...[119]
Джеральда захлестнула волна презрения и отвращения. Отвращение тошнотворной волной пронзило его. О, что же он делает, как же низко он пал! Как будто она была дорога ему настолько, что он мог убить ее, что ее кровь была бы на его совести!
Его тело охватила слабость – страшная расслабленность, он словно обмяк, лишился сил. Инстинктивно он ослабил хватку, и Гудрун упала на колени. Нужно ли ему видеть, нужно ли ему все это знать?
Ужасающая слабость поселилась в нем, его суставы будто превратились в желе. Он пошел, качаясь, словно подхваченный ветром, развернулся, и все также качаясь, направился прочь.
«Нет, не нужно мне это!» – так говорило в его душе отвращение, когда он, слабый, уничтоженный, брел вверх по склону, только сворачивая в стороны, чтобы на что-нибудь не наткнуться.
– С меня достаточно. Я хочу спать. Хватит.
Головокружение полностью поглотило его существо.
Он был слаб, но отдыхать ему не хотелось, ему требовалось идти вперед и вперед, навстречу своему концу. Не останавливаться, пока он не найдет свою смерть, – это единственное желание все еще горело в его душе. И он все брел и брел вперед, ничего не видя, охваченный слабостью, ни о чем не задумываясь, брел, пока у него еще оставались силы.
Сумерки зажгли небо странным, призрачным голубовато-розовым светом, на снег опускалась холодная голубая ночь. Внизу, в долине, на огромной снежной подушке виднелись две маленькие фигурки: Гудрун, не поднимавшаяся с колен, словно человек, которому вот-вот отрубят голову, и Лерке, сидящий прямо рядом с ней. И все.
Джеральд, спотыкаясь, ковылял вверх по заснеженному склону в синеватой тьме, постоянно вверх, инстинктивно вверх, хотя сил у него почти не осталось. Слева возвышался крутой склон с черными скалами, осыпавшимися камнями и белыми снежными прожилками, то тут, то там пересекавшими черную породу. Но не было слышно ни одного звука, все застыло в молчании.
Чтобы только усложнить его задачу, справа над его головой светил маленький яркий кружок луны, вызывающий боль яркий кругляшок, который всегда был на своем месте, неизменно, от которого нельзя было убежать. Ему так хотелось добраться до конца – он больше не мог терпеть. Но сон не наступал.
Ему было больно, но он все шел вперед; иногда ему приходилось пересекать изгиб черной скалы, с которого ветер сдул весь снег. Он боялся упасть, он очень боялся упасть. А высоко на перевале носился ветер, который едва не опрокинул его своим тяжелым, сонным ледяным дыханием. Только конец ждал его не здесь, он должен был идти вперед. Необъяснимая дурнота не позволяла ему стоять на месте.
Взобравшись на один гребень, он увидел впереди нечто еще более высокое. Выше, еще выше! Он знал, что он идет по лыжному следу туда, где сходились все склоны, где стояла Мариенхютте, а на другой стороне был спуск. Но он этого не осознавал. Он просто хотел идти, идти вперед, пока еще мог двигаться, не останавливаться, – вот и все, идти, пока все не кончится. Он полностью утратил чувство расстояния. И однако же остатки инстинкта самосохранения заставляли его ноги выискивать лыжню, по которой недавно он ехал.
Он поскользнулся и скатился по какому-то склону. Это его испугало. У него не было альпенштока, не было вообще ничего. Но благополучно скатившись на землю, он поднялся и пошел дальше, туда, где тьму озарял свет. Было холодно, как в могиле. Он шел между двумя гребнями по впадине. Он повернул. Карабкаться ли ему на другой гребень или идти вдоль впадины? Какой хрупкой была нить его жизни! Пожалуй, он будет карабкаться. Снег затвердел и это было просто. Он шел дальше. Вот там что-то торчит из снега. Он подошел поближе, с мрачным любопытством.
Это было наполовину засыпанное снегом распятие – маленькая фигурка Христа, прикрепленная к шесту под маленькой покатой крышей. Он отшатнулся. Кто-то хочет убить его! Он всегда страшно боялся, что его убьют. Но этот ужас исходил извне, это словно был его собственный призрак. Но стоит ли бояться? Это должно было случиться. Быть убитым!
Он в ужасе огляделся вокруг, посмотрел на снег, качающиеся, бледные, призрачные склоны верхнего мира. Ему суждено быть убитым, он понимал это. Наступил момент, когда смерть подобралась совсем близко – и бежать было некуда.

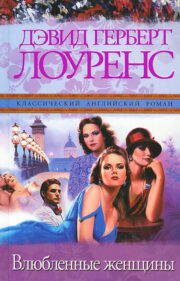
"Влюбленные женщины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Влюбленные женщины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Влюбленные женщины" друзьям в соцсетях.