Но владетели Высоксы зато гордо подняли голову и стали распоряжаться и повелевать в своем крае, уже окончательно ничего и никого не опасаясь. Вскоре за их крутые, громкие, но и разумные действия какой-то петербургский сенатор остроумно дал Басановым прозвище «Владимирские Мономахи»…
Прозвище дошло и до Высоксы и понравилось даже тем, кто и не знал, что оно значит, но братья-заводчики действительно стали местными решителями судеб не только поместного дворянства, но и лиц, власть предержащих… По жалобе Владимирских Мономахов был вдруг смещен и отдан под суд за самоуправство владимирский наместник[5]. Через четыре года волокиты наместник очистил себя пред судом, но уже в сенате, куда довел свое дело и где доказал, что не он, а братья Басановы — самоуправцы и ябедники.
Но братьев-заводчиков все-таки власти не тронули, да и вообще перестали трогать, а стали стараться жить с ними в ладу. Оно было спокойнее, да вдобавок и очень выгодно.
В те дни, когда по случаю новой войны с Турцией Высокса сновa работала для огромной поставки в казну, главный и истинный создатель заводов Савва Ильич вдруг скончался.
Он был холост и даже ненавистник женщин, и наследником всего остался Аникита Ильич. Старший Басанов был давно женат и даже два раза. Первая жена его, родом Бобрищева, на которой он женился, выйдя в отставку и будучи еще у отца в вотчине, была неплодна. Шесть лет ждал Аникита Ильич «наследником», и затем оба брата «Мономахи» решили, что так оставить дело нельзя… Почто же они работают? Для кого? И Раиса Сергеевна Басанова «по собственной воле» была пострижена в монахини, а через три года умерла, «сокрушаясь по своей мирской жизни».
Аникита Ильич тотчас же снова женился на красивой девице шестнадцати лет, княжне Никаевой, от которой вскоре, к великой радости, прижил сына, нареченного Саввой, потом еще сына, названного Алексеем, и затем дочь, названную Дарьей. Старший сын стал любимцем дяди, и два Саввы не расставались. Когда восьмилетний Савва, простудившись, умер в одну ночь от какой-то детской болезни, пятидесятилетний Савва, крепкий на вид, стал страшно тосковать и через год, чуть не день в день, ушел за своим любимцем, маленьким Саввушкой.
Спустя года три умерла и его мать, вторая Басанова, и Аникита Ильич остался вдовцом с двумя детьми. Он стал собираться жениться в третий раз, но не иначе, как на такой, которая, кто бы она ни была, станет беременна… И не мало минуло в доме мимолетных любимиц.
III
Высокса, получившая свое имя от маленькой, чуть видной речонки, не имела вида большой барской усадьбы со службами. Она была с виду посад или местечко, или даже уездный городок, хотя с начала ее возникновения прошло только двадцать пять лет.
Барские палаты в три этажа с двумя крылами стояли на небольшой площади если не мощеной, то с твердым кремнистым грунтом, утрамбованным отбросами руды с заводов.
Прямо перед домом, но под горой, или как бы в огромном овраге, была заводская домна с высокими каменными, вечно дымящимися трубами. Налево расстилалось большое полутораверстное озеро, окруженное лесами… Озеро уходило, заворачивало влево, скрывалось из виду за лесом и казалось еще больше и шире. Невдалеке от большого дома высилась главная церковь среди площади, а кругом нее и лицом к ней протянулись небольшие домики духовенства и главных заводских заправил, и вольных, и крепостных. Здесь были домики главного управителя заводов и трех главных смотрителей. Направо от дома через площадь торчало неуклюжее здание, казавшееся с одной стороны треугольным, с другой — пятиугольным, где была коллегия, т. е. главное управление. Над ним, посредине, высилась тяжелая четырехугольная башня с часами, гулкий бой которых был слышен далеко, в тихую погоду за версту. Имя «коллегии» было, конечно, прихотью владельца.
Затем начиналась улица, на которую выходили все службы, конюшни, сараи, кладовые… Все это было равно каменное, но разнокалиберное, будто строившееся без толку, или будто на время, или же ради прихоти.
После ряда этих зданий, больших и малых, открывалось большое пустое пространство, где еженедельно бывал базар. В глубине налево виднелось темное здание в два этажа с высокой крутой башней, или каланчой. Это была полиция, где жило тридцать человек стражников, имя которых было местное: «рунты»[6]… Полицейские эти двух сортов, старшие и младшие, были под командой обер-рунта, грозы всей Высоксы.
Здесь во дворе стояли бочки на дрогах, всегда полные воды, а в конюшнях до дюжины рунтовых лошадей, которые употреблялись только ими: или закладывались в бочки в случае пожара или оседлывались для рунтов, когда их «гоняли» с поручениями по заводам или в уездный город.
Вдоль базарной площади или поляны тянулись в ряд дома и домики, где помещались главные мастера, между которыми были и иностранцы.
Затем далее, в полуверсте, была слобода, где жили заводские крестьяне… но слобода эта была тоже целый городок, так как к одной Высоксе было приписано десять тысяч душ обоего пола.
У слободы была своя церковь, которую звали малой. Рабочий люд не имел права являться в большую церковь, которая впрочем и без них бывала в праздничные дни полнехонька «важными» людьми, начиная с семейств приживальщиков и кончая разными управителями и смотрителями с семьями.
Кругом всей Высоксы стояли вековые сосновые леса. Во все стороны на десятки верст и по трем большим дорогам сплошной массой теснился непроходимый лес. В иных местах и народное название его было: «стена». Это были места, в которых топор никогда не бывал и через которые пролезть было совершенно невозможно. Здесь, конечно, были царства не только волков и лисиц, но и медведей в большем количестве.
Впрочем, мишки особенно любопытные или легкомысленные появлялись изредка и в самой Высоксе, где, конечно, находили большею частью смерть. Барин платил вообще за каждого убитого медведя два рубля. А это были деньги немалые. До полусотни охотников на Высоксе не только жили, но богатели по милости указанного и награждаемого барином истребления этих опасных и многочисленных соседей.
Наконец, в нескольких верстах, в трех, в пяти и в десяти — были другие железные и чугунные заводь:. Самый дальний был проволочный завод.
Границ владений барина Басман-Басанова никто не знал. Да и сам он, казалось, или не знал, или не хотел знать. Старожилы помнили хорошо, что места, которые считались всего лет десять назад казенными, теперь считались бариновыми.
«Да и все-то… все… откуда взялось?!»
Впрочем, из-за отсутствия или неизвестности границ бывали и неприятности с губернскими властями.
Но все такое сходило с рук просто. Однажды казенный лесничий, вновь назначенный по соседству с Высоксой, стал воевать с барином Аникитой Ильичом и добился присылки ревизоров и землемеров. Но сам он вдруг умер и странной смертью: холодного квасу выпил у себя же дома…
А ревизия явилась, пожила в Высоксе с неделю, пировала всякий день, угощаемая барином, и уехала… Когда чиновники, и важные и мелкие, прощались с барином и говорили «до свиданья», барин отвечал, махнув рукой:
— Нет. Спасибо… Ну вас! Разве еще заведется какой буян, и мне опять придется его сплавлять, а вы приедете меня рассуживать. Но только, чур, говорю вперед. Чур!
Впрочем, все наместничество давно знало, что Басанова надо «чураться».
Громадный дом, почти дворец, выстроился не сразу. Сначала он был двухэтажный, а только после смерти Саввы Ильича брат не пожелал жить в тех комнатах, где они вместе провели много лет, живя душа в душу.
Аникита Ильич пристроил для себя мезонин в семь комнат, но через три года увеличил его и расширил во весь дом, чтобы перевести свою личную канцелярию. Теперь весь верх был занят барином, и люди, говоря о нем, говорили «верх» или «вверху». Они даже выражались: «Ныне вверху простудимшись». Или: «Погоди, верх узнает, задаст трепку!»
Во втором этаже были все парадные комнаты: три гостиных, китайская комната и итальянская, или портретная. Здесь висел на главном месте портрет Саввы Ильича, а по бокам его две императрицы: Анна и Елизавета. На противоположной стене был большой портрет царствующей государыни «благодетельницы», как звал ее барин. После гостиных были две залы: первая служила столовой, вторая, чрезвычайно больших размеров, предназначалась только для вечеров, празднеств и пиров, бывавших однако не более пяти-шести раз в году. В этой зале висел огромный портрет, целая картина, изображавшая первого императора, особенно чтимого обоими братьями Басман-Басановыми. Портрет этот кисти иностранного художника прибыл на корабле из Голландии и обошелся крайне дорого. В этом же зале большие английские часы играли целый концерт в полдень.
В стороне от гостиных, но окнами в сад, были комнаты троюродной внучки барина, однако именуемой племянницей, Сусанны Юрьевны Касаткиной. Из ее гостиной был выход на небольшую террасу с маленькой лестницей в сад, но особенной, подъемной… Устроил ее немец-механик.
В правом крыле дома, выдвигавшемся в сад и полузакрытом от дома липами, были комнаты молодого барина Алексея Аникитича, с особой террасой и с особым подъездом с улицы.
В левом крыле передняя часть принадлежала «маленькой» — как звали ее — барышне, Дарье Аникитишне, жившей со своей няней, бывшей крепостной, Матвеевной. В задней части крыла, но без сообщения с комнатами барышни, было помещение Никаевых — князя, его сына и дочери.
Все эти отдельные квартиры были вполне особняками со своими подъездами и выходами. При всех была своя отдельная прислуга и свое маленькое хозяйство… Даже свой собственный особый отпечаток замечался во всех этих помещениях.
У барина «вверху» сновал народ, кипело дело. У племянницы бывало иное оживление — гости и прием. У молодого барина царила мертвая тишина, как если бы все правое крыло дома было необитаемо. У «маленькой» барышни было тоже сравнительно тихо, тише, чем могло бы быть, так как ее юные приятельницы, шумевшие у себя, в гостях у нее притихали, будто из подражания ей.

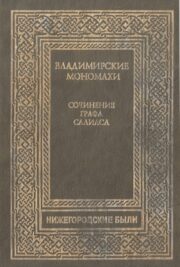
"Владимирские Мономахи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Владимирские Мономахи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Владимирские Мономахи" друзьям в соцсетях.